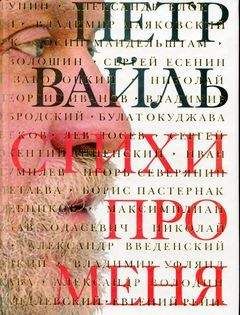Он пел подкупающе безыскусно, не обладая сильным голосом, не одаренный способностью к изыскам, мелизмам (как Высоцкий со своим завораживающим протяжением согласных). Его проникающее обаяние просто и наглядно. В конце 90-х замечательный поэт, продолжавший (кажется, и продолжающий) отвергать Окуджаву за стилистику заведомо придушенного протеста, стал у меня в гостях объектом опыта. Выпили, установилось благолепие, и я поставил диск. Захорошевший поэт начал подпевать и пропел едва не все двадцать девять песен выпущенного во Франции альбома "Lе soldat еп рарiеr" — от "Молитвы Франсуа Вийона" до "Опустите, пожалуйста, синие шторы...".
Окуджава вошел в слух и сознание, пробил подкорку, потому что отважно взял на себя стыдные чувства нежности и теплоты. Откровенно, прямо и беззастенчиво он высказывался на свои главные темы: Война, Женщина, Двор.
Молодой Сергей Гандлевский, непримиримый в то время, писал в 80-м: "Здесь с окуджававской пластинкой, / Староарбатскою грустинкой / Годами прячут шиш в карман..." Безжалостность 27-летнего — лермонтовского, отрицающего — возраста. Даже прилагательное отвратительно, на звук и на взгляд: "окуджававской". Но и безусловное признание здесь — тоже. Гандлевский пишет о своей улице, над которой — для всего нашего поколения, где бы мы ни жили — витает образ окуджавского арбатского двора. Создано лекало, по которому нельзя не вычерчивать свое детство, отрочество, юность — так оно плавно, удобно, натурально.
Об Арбате Окуджава писал с конца 50-х (про Леньку Королева, про текущую рекой улицу со странным названием) до самого конца, и это яркий пример сознательно и настойчиво внедряемого образа, который выглядит естественным. Родившийся в Москве Окуджава жил на Арбате до десяти лет, а потом еще с тринадцати до шестнадцати — и всё. Строго говоря, строчки "Я выселен с Арбата, арбатский эмигрант... Ходят оккупанты в мой зоомагазин" ничем не обоснованы. Он в 40-м уехал в Тбилиси, а когда после войны, после Калуги, в 56-м вернулся в Москву, то жил в других местах. Тем не менее и через четверть века писал о своем дворе: "Когда его не станет — я умру, / пока он есть — я властен над судьбою", называл себя "дворянин с арбатского двора". Верность завидная.
Для меня окуджавский двор — любой, где музыка из окошка. Арбатский — пусть арбатский.
В 75-м, в год "Арбатского романса", на весенней сессии заочного отделения Московского полиграфического, я пошел искать дом и двор, где часто бывал мальчиком. Нашел и теперь знаю, что это совсем рядом с Окуджавой. Его — № 43, под арку против Спасопесковского переулка, он и теперь есть, только двор усеченный, перестроенный. Наш, где жила когда-то тетка, сестра отца, и ее дети, мои двоюродные брат и сестра, куда меня в детстве привозили из Риги, — в квартале оттуда, ближе к Смоленской площади.
В 75-м, никакого Окуджаву не имея в виду, я наткнулся, как сейчас понимаю, именно в его 43-м дворе на компанию с гитарой. Разговорились, мне понравилось, как уже сильно затуманенный в два часа дня очкарик мечтательно сказал: "Одно из двух — или Арбат, или арбайт". Мы плодотворно продолжили эту мысль, пополняя и тасуя свои ряды до позднего утра, и когда я прямо с Арбата прибыл на Садовую-Спасскую, принимавший экзамен по зарубежной литературе профессор Урнов, увидев меня, сказал: "Ой!" Сдав экзамен, я вернулся в тот двор, в тот дом и пробыл там под гитарные аккорды еще два дня вплоть до практической стилистики — с арбатцами и, что важнее, с арбатками, ничем не отличавшимися от рижанок из наших дворов: трогательная легкость нрава, стремительная отзывчивость к вниманию, всегдашняя готовность к необязательности.
Как правильно писал именно в те годы Окуджава: "...Гордый, сиротливый, / извилистый, короткий коридор / от ресторана "Праги" до Смоляги, / и рай, замаскированный под двор". Ага, рай, что же еще? Такие рай (как глупо, что это слово обходится без множественного числа, какая бедность воображения) снимали с себя маски в Москве, Тбилиси, Питере, Пскове, Вильнюсе, Киеве, уж не упомнить, потом в Нью-Йорке, хотя дворы там другие. Чаще всего, разумеется, в Риге, откуда я уехал в неполные двадцать восемь — хороший возраст: уже вполне, но еще впереди.
"...Из каждого окошка, где музыка слышна, / какие мне удачи открывались!" Мало поэтических строк, которые я повторяю чаще. Понимаю, что это — заклинание. Что никуда не денешься, когда-нибудь ощущение музыки из окошка пройдет. Но пока оно есть, ничего не страшно.
Александр Володин 1919—2001
Простите, простите, простите меня!
И я вас прощаю, и я вас прощаю.
Я зла не держу, это вам обещаю,
но только вы тоже простите меня!
Забудьте, забудьте, забудьте меня!
И я вас забуду, и я вас забуду.
Я вам обещаю, вас помнить не буду,
но только вы тоже забудьте меня!
Как будто мы жители разных планет.
На вашей планете я не проживаю.
Я вас уважаю, я вас уважаю,
но я на другой проживаю. Привет!
!976
Как неуклонно, стремительно и наглядно нарастает с годами количество людей, к которым хочется обратиться с этими непритязательными строчками.
Алексей Цветков 1947
уже и год и город под вопросом
в трех зонах от очаковских громад
где с участковым ухогорлоносом
шумел непродолжительный роман
осенний строй настурций неумелых
районный бор в равнинных филомелах
отечества технический простой
народный пруд в розетках стрелолиста
покорный стон врача специалиста
по ходу операции простой
америка страна реминисценций
воспоминаний спутанный пегас
еще червонца профиль министерский
в распластанной ладони не погас
забвения взбесившийся везувий
где зависаешь звонок и безумен
как на ветру февральская сопля
ах молодость щемящий вкус кварели
и буквы что над городом горели
грозя войне и миру мир суля
торговый ряд с фарцовыми дарами
ночей пятидесятая звезда
на чью беду от кунцева до нары
еще бегут электропоезда
минует жизни талая водичка
под расписаньем девушка-медичка
внимательное зеркало на лбу
там детский мир прощается не глядя
и за гармонью подгулявший дядя
все лезет вверх по гладкому столбу
вперед гармонь дави на все бемоли
на празднике татарской кабалы
отбывших срок вывозят из неволи
на память оставляя кандалы
вперед колумбово слепое судно
в туман что обнимает обоюдно
похмелье понедельников и сред
очаковские черные субботы
стакан в парадном статую свободы
и женщину мой участковый свет
[1978]