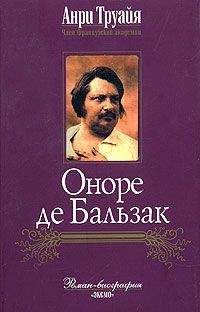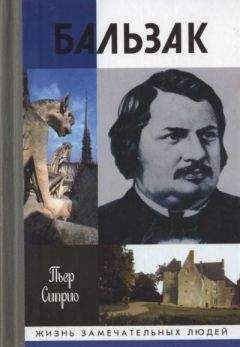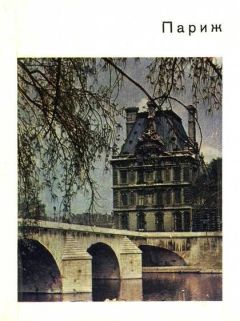Двенадцатого августа они пустились в обратный путь, который пролегал через Женеву, где Оноре отправился по священным для него местам любовных свиданий с Ганской. Опасаясь, что здесь пойдут пересуды о его секретаре с широкими бедрами и представительной грудью, он решил положить конец этой невинной эскападе. Через шесть лет ей будет посвящен рассказ «Гренадьера»: «Каролине, с благодарностью за поэтическое путешествие – признательный путешественник».
Вернувшись двадцать второго августа в Париж и еще не распаковав багаж, Бальзак срочно сел за отчет к Ганской, которая, безусловно, была в курсе его путешествия. Предложенная им версия звучала так: «Я воспользовался поводом побывать в Турине, чтобы помочь человеку, с которым у нас одна ложа у Итальянцев. Это некий господин Висконти, который не мог поехать и заняться своими делами. За двадцать дней я добрался туда через Мон-Сени и вернулся через Симплон, компанию мне составила знакомая госпожи Карро и Жюля Сандо… Вы, наверное, догадались, что в Женеве я еще раз посмотрел на Пре-Левек и дом Мирабо. Увы! Тем, кто страдает, воспрещено вдыхать благоуханный воздух. Вы одна и воспоминания о вас могли воскресить печальное сердце… И вот я дома, с кровоточащей раной, след от которой никогда не исчезнет, но которую только вы, сами того не зная, умеете перевязать». Письмо закончено, запечатано, он чувствует себя как ребенок, пойманный с поличным, но нашедший, в конце концов, весомое оправдание, чтобы не быть наказанным.
Свои чувства к Каролине Марбути он проанализирует позже, обращаясь к маркизу де Сен-Тома: «После возвращения я видел Марселя только один раз. Шутки в сторону, caro, Марсель – несчастное хорошенькое создание, вынужденное прозябать в холодном заточении супружества, честная, добродетельная женщина, которую вы больше никогда не увидите, она воспользовалась единственной возможностью на месяц вырваться из клетки. У нее живой, веселый ум, а так как на женщину, покидающую путь добродетели, смотрят неодобрительно, она решила позабавиться и стать на время школяром. Это вовсе не Жорж Санд, которой я вас когда-нибудь представлю, ей было приятно, что ее принимали за нее, это помогало сохранить инкогнито. Она могла довериться мне в этом приключении, потому что знает – я пылаю страстью к другой и больше ни одна женщина в мире для меня не существует, только моя cara… Наверное, когда-нибудь я увижу ее еще раз. О ее путешествии никто не знает, бестактность может ее погубить».
Кто был большим безумцем, соглашаясь на эту проделку, – Бальзак или Каролина? Оноре никак не мог согласиться с тем, что ему уже тридцать семь и что поведение зрелого человека никоим образом не должно напоминать похождения литературного персонажа.
Разбирая почту, которая накопилась за время его пребывания в Италии, Бальзак обнаружил письмо, отправленное из Немура двадцать седьмого июля (за день до этого они с «Марселем» удрали из Парижа) и, следовательно, прождавшее его три недели. Александр де Берни сообщал: «Это печальное письмо, дорогой Оноре. После десяти дней тяжелых страданий, невралгических болей, удушья и водянки наша мать умерла этим утром в девять часов. Наша добрая матушка достойно прожила свою жизнь, и теперь ей должно быть покойно. Завтра в десять утра она будет похоронена на кладбище Грез рядом с ее дорогим Арманом». Писатель с ужасом осознал, что, когда так любившая его женщина умирала, он весело катил по дороге с другой, переодетой мужчиной. Бальзак не знал, куда деться от отчаяния, и напрасно повторял себе в оправдание, что после кончины сына Армана в ноябре 1835 года госпожа де Берни пожелала оставаться в одиночестве, что давно была больна, врачи считали ее положение безнадежным, что, оставив Дилекту в покое, лишь выполнял ее просьбу. Он проклинал тот час, когда ему пришла в голову мысль отправиться в путь: задержись, мог бы скрасить ей последние мгновения. Позже ему станет известно, что «Лилия долины» была ее настольной книгой, она без конца перечитывала страницы с описанием смерти госпожи де Морсоф, как раз те, которыми автор так гордился, хотела позвать его, чтобы утешал ее в уходе в другой мир, просила Александра разыскать Оноре в Париже, причесывалась перед ручным зеркальцем, чтобы достойно встретить, когда же ожидание затянулось, пригласила священника и причастилась. Перед тем как навеки закрылись ее глаза, госпожа де Берни попросила сына сжечь письма Бальзака. На следующий день пятнадцать лет их любви обратились в пепел.
Ничего не осталось, между тем Бальзак помнил каждое мгновение, рана оказалась слишком глубока. Он сообщает Ганской: «Умерла госпожа де Берни. Не станем говорить об этом. Боль моя не пройдет за один день, она – на всю жизнь. Я не видел ее год, не видел в ее последние мгновения». Гораздо искреннее о своей боли расскажет он таинственной Луизе: «Женщина, которую я потерял, больше, чем мать, больше, чем друг, больше, чем один человек может значить для другого. Она была божеством. Она поддерживала меня словом, делом, преданностью в самые трудные времена. Я жив благодаря ей, она была для меня всем. И хотя последние два года, пока она болела, мы были разлучены, мы не теряли друг друга из виду. Она влияла на меня, была моим нравственным солнцем. Госпожа де Морсоф из „Лилии“ обладает лишь бледным отблеском достоинств этой женщины. Я не склонен делать свои чувства достоянием публики, а потому никто никогда ничего не узнает. Вот так, среди новых ударов пришла весть о смерти этой женщины».
Он был в смятении, а семейные дела требовали его вмешательства. Ни к чему, кроме траты денег, не способный брат Анри в конце концов разорил мать, та призывала Оноре на помощь. В отчаянном положении были и Сюрвили, боялись, что грандиозный проект канала будет отвергнут. Как никогда нуждался Бальзак в женщине, которой можно было бы излить свои беды, которая бы посочувствовала. Он примеряет роль, с которой так умело справлялась нежная Дилекта, на Эвелину Ганскую: «Я назначу вас ее наследницей, вы так же благородны и могли бы написать письмо госпожи де Морсоф, которая – только легкое дуновение ее сильного, ровного дыхания… Умоляю, cara, не приумножайте мои страдания недостойными подозрениями, верьте, что в такой ситуации человека нетрудно оболгать, меня же не заботит, что станут говорить обо мне. То, о чем вы говорите в последних своих письмах, не может иметь ко мне никакого отношения. Ваша склонность верить абсурдным сплетням для меня необъяснима». И чтобы яснее дать понять своей корреспондентке, что хотел бы видеть в ней Дилекту, осмеливается добавить: «Не думаю, что совершаю святотатство, запечатывая этот конверт печаткой, которой пользовался, переписываясь с госпожой де Берни… Я дал обет носить ее». Недоверчивая Ганская вряд ли по достоинству оценила уподобление себя умершей, слишком сильно любимой женщине. Тем не менее сделала вид, что проявляет интерес к его неприятностям. Он рассыпался в благодарностях: «О, cara, продолжайте давать свои мудрые, чистые, бескорыстные советы. Если бы вы знали, с каким благоговением я отношусь к тому, что продиктовано истинной дружбой».