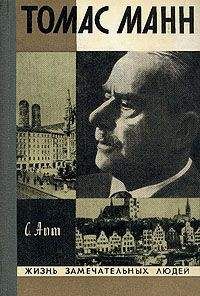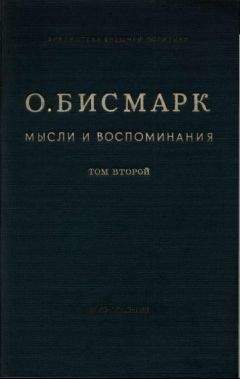Рассказ о девяти днях в Париже уснащен неожиданными в этих устах подробностями, которые на первый взгляд кажутся наивными, поверхностными, полными какого-то несвойственного нашему герою праздничного благодушия. Вот, например, светско-гастрономическое впечатление, вынесенное из ресторана, специализировавшегося на «дарах моря»: «На витринах-прилавках — подводная страна Шлараффия из лангуст, устриц, икры и морской рыбы. На столиках — блюда с великолепными крабами adiscretion36. Стойка при буфете, за которой на высоких табуретках полукругом сидят посетители, подкрепляющиеся, конечно, тоже чем-то рыбным. Мы нашли столик между американцами, японцами и французами. Крабы с заранее намазанным маслом пшеничным и ржаным хлебом служат хорошим развлечением до тех пор, пока не подается bouillabaisse, страшно вкусное и такое обильное кушанье, что после него требуется только сыр, чтобы в желудок попало хоть что-нибудь и неокеанское». Или эпически обстоятельное описание перехода через проезжую часть оживленной улицы: «Только ухитришься добраться до середины — и встречный поток оказывается настолько густ, что ты стоишь как вкопанный на узенькой площадке, между жизнью и гибелью, и не можешь ступить ни вперед, ни назад. Как утешителен в такой ситуации вид полицейского, который стоит под дождиком на своем посту... Становишься с ним рядом, взираешь на него как на отца родного. Так и поступила моя спутница, и было отрадно, когда он со спокойной, усталой и отеческой улыбкой сказал ей: «Vous restez encore ma prisoniere»37. A потом: «Passez!»38 Или — чтобы покончить с примерами — такая сентенция: «Как приятно, что на десерт всегда подается несколько бокалов шампанского — радостно и полезно. Ведь хорошие вещи здесь очень дешевы: вина и ликеры, тонкие сорта мыла и одеколона, тонкие сыры. В конце концов, неспроста говорится: «Жить как бог во Франции».
Неужели это действительно внезапный, из ряда вон выходящий приступ квиетизма? Мы могли бы, конечно, объяснить столь поразительное внимание к благам цивилизации, «хорошим вещам» в «Парижском отчете» повышенной чувствительностью человека, расставшегося на время с привычной обстановкой и привычным укладом жизни, к многообразию зримого мира, то есть той особой остротой впечатлений, которая и вообще свойственна путешествиям, и даже сослаться при этом на собственные высказывания нашего героя о таком, стимулирующем впечатлительность действии поездок. Могли бы мы, опять-таки обращаясь к его же признаниям, оправдать это благодушие — если б это и впрямь было благодушие — простой человеческой слабостью, тем, что мечтателю — а он им, конечно, был — «действительность мнится невероятнее всякой мечты и льстит ему тоньше». Но ни в том, ни в другом нет нужды, ибо то, что кажется поначалу только непритязательной зарисовкой с натуры или фотографией, вкрапленной ублаженным путешественником в отчет о парижских речах и беседах, на самом деле подчинено замыслу, который, хотя перед нами как будто чистейшая публицистика, иначе как художественный трудно назвать и который дышит иронией, может быть, грустной иронией, но не успокоенностью.
«Если мерить полноту жизни, — читаем мы вдруг, — потреблением белых крахмальных сорочек, то мне было хорошо, ничего не скажешь. Но чтобы быть честным, признаюсь, что в такой празднично-сумбурно-сенсационной обстановке путешествия... я в глубине души всегда чувствую себя плачевно... меня не покидает сознание, что мир водит меня за нос и что достойным и настоящим остается только уединенность, тихая, дельная равномерность жизни в собственной сфере».
«В собственной сфере» он, в сущности, оставался, внося в свой дневник зарисовки, подобные приведенным. Один из исследователей его творчества назвал Францию, как она предстает в «Парижском отчете», «стилизованной Францией». Это меткое замечание. Но разве не прибегал уже наш герой к стилизации, разве невольно или, вернее, с вольностью художника и мечтателя не впадал в некую условность и раньше, когда, рассуждая о немецкой республике в бетховенском зале, искал черты своего самого общего гуманистического идеала в реальном веймарском государстве? Теперь он условно отождествлял с Францией и вообще с западной цивилизацией узкий круг интеллигентов, с которыми дискутировал о прошлом и будущем Европы и о собственном творчестве. И если тогда, в бетховенском зале, он воочию видел перед собой своих топавших ногами противников, то теперь проницательным внутренним зрением он видел, как ненадежна эта фасадная стабильность, эта цивилизованная умеренность буржуазного Запада.
В зале парижского театра «Атеней», куда он пришел в один из свободных от приемов и заседаний вечеров, зрители спектакля «Новые господа» не топали ногами и политической демонстрации не устраивали. Они только, как того и хотели авторы комедии, носители дворянских фамилий де Флер и де Круассе, дружно смеялись над ее героем — маленьким человеком, скромным электротехником, очутившимся благодаря стечению обстоятельств на министерском посту, который ему явно не по плечу. В их смехе автор «Парижского отчета» расслышал, однако, нечто знакомое. «Надо было слышать, — писал он, — как сочувственно, понимающе смеялась публика над каждой антидемократической остротой. Этот скепсис свойствен сегодня всем народам, пресыщенность парламентской демократией и неразберихой партий стала интернациональна. Но что же будет?.. Путь назад, к додемократическим порядкам, заказан... Никогда опасность путаницы и смешения в умах последемократической революционности с грубой реакционностью не была больше, чем ныне...» Ганс Касторп не возразил Нафте и, внутренне сопротивляясь его поучениям, надеялся, что ему даст отповедь, что на него «рыкнет» Сеттембрини. Публицист Манн развенчивал нафтианские идеи неприязненнее и прямее, чем Манн-художник. Сразу после строк об этом парижском театральном впечатлении он заговорил об одной только что вышедшей немецкой ученой статье, о предисловии Альфреда Боймлера к сборнику работ известного исследователя мифов Бахофена, усмотрев в ней как раз пример «смешения последемократической революционности с грубой реакционностью». «Доброе ли, жизнелюбивое ли, педагогичное ли дело, — сказал он по поводу статьи Боймлера, — навязывать сегодняшним немцам все эти ночные грезы, весь этот герресовский39 комплекс — почва, народ, природа, прошлое, смерть, — весь этот, грубо выражаясь, революционный обскурантизм, молчаливо подразумевая, что все это опять на повестке дня, что речь идет не об истории, а о жизни, о молодежи, о будущем — вот вопрос, который вызывает тревогу». В 1933 году, с приходом Гитлера к власти, Альфред Боймлер стал «профессором политической педагогики» и одним из главных национал-социалистских «философов».