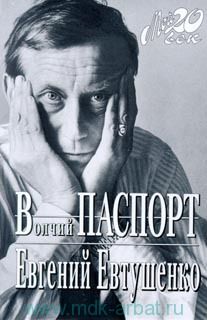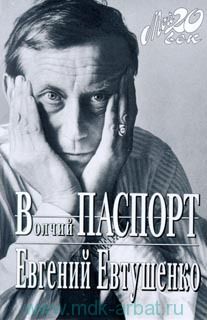Величественная грудь представительницы гороно тяжело вздымалась от ужаса. Но она мужественно держалась, в последнее мгновение заменив крик общественного возмущения, уже высунувшийся из ее скромно накрашенных губ, на глубокий педагогический вздох.
– Этот мальчик – позор Дзержинского района… – сказала она скорбным голосом кондитера из «Трех толстяков», когда в любовно приготовленный им торт с цукатами и кремовыми розочками плюхнулся влетевший в окно продавец воздушных шаров. – Надеюсь, что другие учащиеся дадут достойный отпор этой вражеской вылазке…
Неожиданно для меня из зала выдернулся Ким Карацупа, по кличке Цупа, который сидел на парте за моей спиной и всегда списывал у меня сочинения по литературе. Цупа преобразился. Он пошел к трибуне не расхлябанной марьинорощинской походочкой, обычной для него, а почти строевым шагом, как на уроках по военному делу. Цупа пригладил рыжие вихры и произнес голосом уже не пионера, а пионервожатого:
– Как сказал Короленко: «Человек создан для счастья, как птица для полета». Но разве трусы, боящиеся наших советских врачей, могут летать? Таких трусов беспощадно заклеймил Горький: «Рожденный ползать – летать не может». Трусость ужей не к лицу нам, продолжателям дела молодогвардейцев. Мы, пионеры седьмого класса «Б» двести пятьдесят четвертой школы, единодушно осуждаем поведение нашего одноклассника Жени Евтушенко и думаем, что надо поставить вопрос о его дальнейшем пребывании в пионерской организации…
– Ну почему единодушно? Говори только за себя… – услышал я голос моего соратника по футбольным пустырям Лехи Чиненкова, но его выкрик потонул в общих аплодисментах.
– Постойте, постойте, ребята… – вставая, сказал неожиданно высоким, юношеским голосом Фадеев. Лицо его залил неестественно яркий, лихорадочный румянец. – Так ведь можно вместе с водой и ребенка выплеснуть… А вы знаете, мне понравилось выступление Жени. Очень легко – бить себя в грудь и заявлять, что выдержишь все пытки. А вот Женя искренне признался, что боится шприцев. Я, например, тоже боюсь. А ну-ка, проявите смелость, поднимите руки все те, кто боится шприцев!
В зале засмеялись и поднялся лес рук. Только рука Цупы не поднялась, но я-то знал, что во время прививки оспы за билет на матч «Динамо» – ЦДКА он подсунул вместо себя другого мальчишку под иглу медсестры.
– Не тот трус, кто высказывает сомнения в себе, а тот трус, кто их прячет. Смелость – это искренность, когда открыто говоришь и о чужих недостатках, и о своих… Но начинать надо все-таки с самого себя… – сказал Фадеев почему-то с грустной улыбкой.
Зал, только что аплодировавший Цупе, теперь так же бурно зааплодировал писателю.
Величественная грудь представительницы гороно облегченно вздохнула.
– Наш дорогой Александр Александрович дал нам всем пример здорового отношения к своим недостаткам, когда он учел товарищескую критику и создал новый, гораздо лучший вариант «Молодой гвардии», – сказала она.
Фадеев снова ввинтил кончики пальцев в свои белоснежные виски…
Имя этого человека старались не произносить еще при его жизни – настолько оно внушало страх.
Однажды, нахохлясь, как ястреб, в темно-сером ратиновом пальто с поднятым воротником, он ехал в своем черном ЗИМе ручной сборки, по своему обыкновению медленно скользя вдоль тротуара. Между поднятым выше подбородка кашне и низко надвинутой шляпой сквозь полузадернутые белые занавески наблюдающе поблескивало золотое пенсне на крючковатом носу, из ноздрей которого торчали настороженные седые волоски.
Весело перешагивая весенние ручьи с корабликами из газет, где, возможно, были его портреты, и размахивая клеенчатым портфелем, по тротуару шла стройная, хотя и слегка толстоногая, десятиклассница со вздернутым носиком и золотыми косичками, торчавшими из-под синего – под цвет глаз – берета с задорным поросячьим хвостиком. Человеку-ястребу всегда нравились слегка толстые ноги – не чересчур, но именно слегка. Он сделал знак шоферу, и тот, прекрасно знавший привычки своего начальника, прижался к тротуару. Выскочивший из машины начальник охраны галантно спросил школьницу – не подвезти ли ее. Ей редко удавалось кататься на машинах, и она не испугалась, согласилась.
Впоследствии человек-ястреб, неожиданно для самого себя, привязался к ней. Она стала его единственной постоянной любовницей. Он устроил ей редкую в те времена отдельную квартиру напротив ресторана «Арагви», и она родила ему ребенка.
В 1952 году ее школьная подруга пригласила к ней на день рождения меня и еще двух других, тогда громыхавших лишь в коридорах Литинститута, а ныне отяжеленных славой поэтов.
«Сам» был в отъезде и не ожидался, однако у подъезда топтались в галошах два человека с незапоминающимися, но запоминающими лицами, а их двойники покуривали папиросы-гвоздики на каждом этаже лестничной клетки.
Стол был накрыт а-ля фуршет, как тогда не водилось, и, несмотря на то что виктрола наигрывала танго и фокстроты, никто не танцевал и немногие гости напряженно жались по стенам с тарелками, на которых почти нетронуто лежали фаршированные куриные гребешки, гурийская капуста и сациви без косточек, доставленные прямо из «Арагви» под личным наблюдением похожего на пенсионного циркового гиревика великого Лонгиноза Стожадзе.
– Ну почему никто не танцует? – с натянутой веселостью спрашивала хозяйка, пытаясь вытащить за руку хоть кого-нибудь в центр комнаты.
Но пространство в центре оставалось пустым, как будто там стоял неожиданно возникший «сам», нахохлясь, как ястреб, в пальто с поднятым воротником, и с полей его низко надвинутой шляпы медленно капали на паркет бывшие снежинки, отсчитывая секунды наших жизней…
Как мне рассказали, через много лет после того, как человека-ястреба расстреляли, она (по ныне полузабытому выражению) «сошлась» с каким-то валютчиком, который затем тоже был расстрелян.
Так, размахивая клеенчатым портфелем, московская школьница вошла в историю из-за своих слегка толстых ног – не чересчур, но именно слегка…
3. Исаак Меламед – победитель
У легендарного режиссера Всеволода Мейерхольда был ассистент – Исаак Меламед, чудом уцелевший в исторических катаклизмах. Самого Мейерхольда я не застал в живых, а вот с Меламедом познакомился. Это произошло в пятидесятых годах в кафе «Националь», где Меламед ежевечерне пребывал вместе со своим другом и собутыльником – замечательным писателем Юрием Олешей. И Меламед, и Олеша были, скажем мягко, небогаты, и сердобольные официантки разрешали им приносить с собой за пазухой магазинную водку без ресторанной наценки. Меламед был закоренелый холостяк, тощий как вобла, с провалившимися щеками, усыпанными веснушками, и с рыжими развевающимися волосами, пылавшими, как огненный ореол, вокруг головы. Меламед ходил всегда в одном и том же засаленном пиджачишке, обсыпанном перхотью, в брюках с непоправимой бахромой, а рубашку он иногда надевал наизнанку, чтобы придать ей подобие свежести, что не мешало ему прицеплять неизменный галстук-бабочку. У Меламеда были огромные, всегда удивленные глаза с печалью внутри, и он мог часами говорить за столом о Данте, Гёте, Шекспире. Лишь уходя из кафе, он спускался с небес искусства на грешную землю и гордо просил взаймы на троллейбус.
И вот однажды произошло нечто необыкновенное. Напротив был длинный банкетный стол, где восседали упитанные иностранцы делового вида и поглощали водку, заедая ее черной икрой и семгой. Внезапно один из иностранцев – весь свежевыбритый, румяненький, лоснящийся, весь в бриллиантовых заколках и запонках, поперхнулся бутербродом с икрой, выплюнул его против всякого этикета, рванулся со стула, уронив его на пол, и завопил на все кафе: «Меламед! Майн либер Меламед!» Он бросился к нашему рыжему оракулу, прижав его к своей осыпанной черными дробинками икры салфетке, засунутой за воротник. Меламед растерянно молчал, пока иностранец обнимал его и тряс, одновременно и хохоча, и чуть не плача. Мы переглядывались, ибо никому из нас и в голову не могло прийти, что Меламед, наш скромный Меламед! – мог быть хотя бы отдаленно знаком с каким-нибудь капиталистом. И вдруг провалившиеся от постоянного недозакусывания щеки Меламеда вздрогнули, и в его детских глазах пророка проблеснуло узнавание. «Пауль!» – заорал в ответ Меламед, и теперь они уже оба начали трясти друг друга, сокрушив на пол графинчик с нелегально перелитой в него под столом магазинной водкой. Иностранец, оказавшийся президентом какой-то фирмы в Западной Германии, начал махать пачками марок, рублей, требовать шампанского, которое немедленно появилось. Ничего не объясняя нам, они принялись петь вместе с Меламедом тирольские песни и, обнявшись, удалились в неизвестном направлении…
История их дружбы, как мне потом рассказали, была следующая. Когда в 1941 году Меламед подал заявление о том, что он готов идти добровольцем на фронт, то в графе «знание языков» поставил «немецкий», хотя знал его только в школьном объеме. Знание немецкого тогда было в цене. Несмотря на чисто символический вес Меламеда – чуть больше пятидесяти килограммов – и на его общий скелетообразный вид голодающего индуса, его направили в десантный отряд парашютистов. Меламед был сброшен с парашютом в белорусских лесах на предмет получения «языка». При приземлении все десантники погибли – за исключением Меламеда, которого, возможно, спас его почти несуществующий вес. Меламед зацепился за сук сосны и повис на парашютных стропах. Затем ему удалось их перерезать и опуститься на землю. Но задание Меламед помнил и решил его выполнить. Однажды после налета нашей артиллерии он нашел в лесу немецкого обер-лейтенанта, раненного в ногу, и потащил его на себе. Для нас, знавших физические возможности Меламеда, это было непредставимо. Ориентировки у него не было никакой: подготовка была спешной и к тому же компас был разбит при приземлении. Знание немецкого языка у него было плохонькое, но срок для освежения знаний был предостаточный: он блуждал, таская на себе Пауля, около месяца. Меламед проделал Паулю операцию, выковыряв у него из ноги осколок своим кинжалом, смастерил ему костыль из молодых березок, и немец кое-как заковылял вместе с Меламедом в сторону плена, спасительного среди осточертевшей ему войны. А по пути они подружились, и Пауль научил Меламеда петь тирольские песни. При пересечении линии фронта, видя, как Меламед обнимается с немецким обер-лейтенантом на прощание, работники Смерша на всякий случай арестовали Меламеда, но потом отпустили ввиду его явной неспособности быть немецким шпионом…