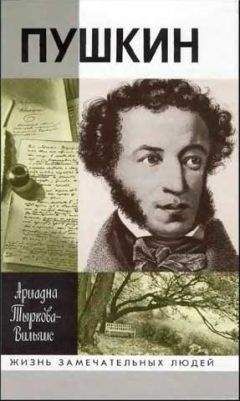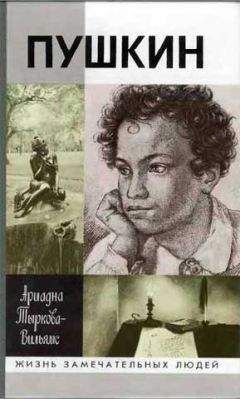В первых секретных донесениях о Пушкине Булгарин давал о нем благоприятные отзывы. Они сохранились в обширных архивах аккуратного фон Фока. Спустя два года после бунта Булгарин писал:
«После 14-го декабря петербургские литераторы перестали собираться в дружеские кружки, как было прежде, и не стали ходить в привилегированные литературные общества, уничтожившиеся без всякого повеления начальства. Нелепое мнение, что Государь Император не любит просвещение, было общим среди литераторов. Но чины, пенсии и подарки, жалуемые от щедрот монарха, составление комитета для сочинения нового цензурного устава и, наконец, особое попечение Государя об отличном поэте Пушкине совершенно уверили литераторов, что Государь любит просвещение, но только не любит, чтобы его употребляли как вредное орудие для развращения неопытных софизмами и остроумными блестками» (14 декабря 1827 г.).
Булгарин знал, что правительство хочет создать себе опору в общественном мнении, и со свойственной ему низменной, лакейской угодливостью изображал перемену настроений писателей, а Пушкина – как примирителя между ними и властью. Описывая вечеринку у Свиньина, Булгарин рассказывает:
«За ужином, при рюмке вина, вспыхнула веселость, пели куплеты и читали стихи Пушкина, пропущенные Государем к напечатанию. Барон Дельвиг подобрал музыку к стансам Пушкина, в коих Государь сравнивается с Петром. Начали говорить о ненависти Государя к злоупотреблениям и взяточности, об откровенности его характера, о желании дать России законы – и, наконец, литераторы так воспламенились, что как бы порывом вскочили со стульев с рюмками шампанского и выпили за здоровье Государя. Один из них весьма деликатно предложил здоровье цензора Пушкина, и все выпили до дна, обмакивая стансы Пушкина в вино. Пушкин был в восторге и постоянно напевал, прохаживаясь: «И так, молитву сотворя, во первых здравие царя» (сентябрь 1827 г.).
После этих донесений фон Фок писал: «Поэт Пушкин ведет себя отменно хорошо в политическом отношении. Он непритворно любит Государя» (октябрь).
Все это писалось, пока Булгарин искал сближения с Пушкиным, потом тон переменился.
Отношение самого Бенкендорфа к Пушкину очень напоминает Воронцова. В обоих генералах было врожденное пренебрежение к такому пустому занятию, как писание стишков. Обоих раздражала независимость Пушкина и его слава. Но Бенкендорф свою недоброжелательность уже вынужден был скрывать. В Одессе Воронцову и в голову не приходило, что правительству не следует отталкивать Пушкина, а Бенкендорф уже говорил Царю, что может быть выгодно «направить перо и речи» поэта.
Общественного мнения в России еще не было. Но было мнение дворянства. Николай понимал, что с их симпатиями и антипатиями приходится считаться. Слава Пушкина уже была так велика, что обращаться с ним по-воронцовски было невыгодно. Пушкин, со своей стороны, уже не был так нетерпелив и резок, как в Одессе. Он остепенился, научился лучше владеть собой. Воронцова он всегда был готов щелкнуть эпиграммой, надменность вельможи отпарировать острой шуткой, которая бесила самолюбивого барина больше, чем грубость, тем более что ему доносили, что вся Одесса повторяет эпиграммы Пушкина. Таких «Пажеских шуток» Пушкин себе с Бенкендорфом не позволял и на него эпиграмм не писал. Шеф жандармов говорил с ним от имени Царя. Пушкин этого никогда не забывал. Но власть Бенкендорфа была куда шире, чем власть генерал-губернатора, настигала Пушкина в любом конце России. Негде было укрыться от его холодного, подозрительного взгляда. При полном отсутствии политической свободы, при упрямом недоверии власти к населению всякий русский подданный, а тем более писатель, находился в большой личной и профессиональной зависимости от правительства. Шефу жандармов было подвластно то, чем Пушкин жил и духовно и материально, – его право печататься.
Их десятилетняя переписка показывает, как неустанно жандармы, шпионы, доносчики, клеветники следили за Пушкиным. Даже мягкотелый Жуковский, когда он после смерти поэта прочел эту переписку, возмутился и написал Бенкендорфу: «Я перечитал все письма, им от Вашего Сиятельства полученные: во всех них, должен сказать, выражается благое намерение. Но сердце мое сжимается при этом чтении. Во все эти двенадцать лет, прошедшие с той минуты, когда Государь его так великодушно присвоил, его положение не изменилось; он все был, как буйный мальчик, которому опасно дать волю, под строгим, могучим надзором. Годы проходили. Пушкин созревал. Ум его остепенился. А прежнее против него предубеждение, не замечая внутренней нравственной перемены его, было все то же и то же» (февраль 1837 г.).
Сам Пушкин долго этого не замечал. Когда наконец заметил, в нем поднялась тяжелая брезгливость, омрачившая его отношения с Царем.
Пушкин встречал Бенкендорфа в свете, изредка вынужден был являться к нему в канцелярию. Чаще сносились они письмами. В большинстве писем Бенкендорфа есть выговоры, иногда резкие. Зачем, не спросясь, читал Пушкин в Москве «Годунова»? Зачем не известил, что едет в Петербург? в Москву? в деревню, на Кавказ? Почему вообще разъезжает не спросясь? Зачем явился на бал во французском посольстве во фраке, а не в дворянском мундире? Из месяца в месяц, из года в год этот ничтожный жандармский офицер приставал к великому поэту со всякой чепухой. Даже теперь, сто лет спустя, эти письма раздражают своей сухостью, тупым высокомерием, полным непониманием, кому он пишет.
До сих пор опубликовано 36 писем Бенкендорфа и 56 писем Пушкина к нему. Некоторые из них писаны по-французски, да и русский текст местами напоминает своими деланными выражениями и преувеличенной почтительностью официальный французский стиль.
Первое письмо Пушкина, где он спрашивает разрешения поехать в Петербург, до нас не дошло. Ответное письмо Бенкендорфа полно раздражительности с оттенком угрозы: «Государь Император не только не запрещает приезда Вашего в столицу, но предоставляет совершенно на Вашу волю». Кажется, чего бы лучше? Но сейчас же начинаются оговорки: «С тем только, чтобы предварительно испрашивали разрешение через письмо. Его Величество совершенно остается уверен, что Вы употребите отличные Ваши способности на предание потомству славы нашего отечества, предав вместе бессмертию имя Ваше. В сей уверенности Е. И. В. благоугодно, чтобы Вы занялись предметом о воспитании юношества. Вы можете употребить весь досуг, Вам предоставляется совершенная и полная свобода, когда и как представить Ваши мысли и соображения, и предмет сей должен предоставить Вам тем обширнейший круг, что на опыте видели все совершенно пагубные последствия ложной системы воспитания… Сочинений Ваших никто рассматривать не будет, на них нет никакой цензуры. Государь Император сам будет первым ценителем ваших произведений и цензором. Объявляя Вам сию монаршую волю, честь имею присовокупить, что как сочинения Ваши, так и письма можете для представления Его Величеству доставлять мне, но, впрочем, от Вас зависит и прямо адресовать их на монаршее имя» (30 сентября 1826 г.).