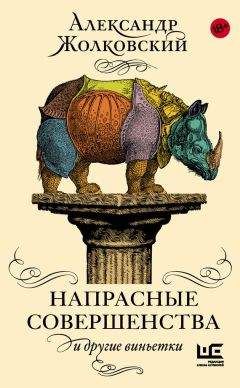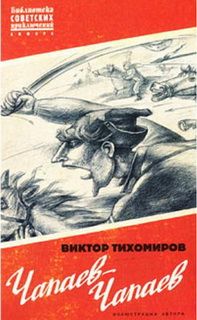Тем большее восхищение вызывают люди, у которых операция ждать входит в служебные обязанности, в то, что по-английски называется job description. Такова, например, профессия официанта, известного в своей американской инкарнации под именем waiter’а, букв. “ожидальщика”. Внутренняя форма этого слова всегда меня интриговала, но словари подтверждают: waiter изначально мыслился как тот, кто, так сказать, только и ждет неподалеку от столика (по-английски его работа описывается как waiting tables, букв. “ожидание столов”), чтобы выполнить ваши пожелания.[63] По смыслу waiter сродни слову attendant (от фр. attendre, “ждать”), которое значит “помощник, служитель, сопровождающее лицо”. Кстати, аналогична и внутренняя форма английского названия фрейлины – lady in waiting, букв. “дама в ожидании”.
В латинские корни французских и английских attendant, attendance, attention и т. п. углубляться не буду, скажу только, что и там обнаруживаются признаки выжидательного напряжения (лат. attendo значит “протягивать, натягивать, напрягать, внимательно слушать, сосредоточенно думать”). Что же касается официантов, не исключая американских, то как-то так получается, что и они подолгу заставляют себя ждать, ставя меня на привычную грань нервного срыва.
Давным-давно, в начале 1980-х, я проездом остановился в Нью-Йорке у старинных знакомых, Кости и Нины. Особенно старинным был Костя – с моего третьего, а его первого, курса филфака.
На нью-йоркской ниве, как когда-то на московской, он работал в поте лица, непрерывно добывая, отстукивая и развозя по городу переводы с русского на английский и обратно. Нина сидела дома, языка не учила и философствовала перед гостями. Я остро сочувствовал Косте, хотя понимал, что, в общем-то, это не мое дело.
Из аэропорта я поспел как раз к ужину. Стол был накрыт, но ужин все не начинался. Нина с вялой театральностью пилила Костю, который неизвестно куда задевал ее юбку, так что она не смогла ее надеть, все время искала, это, в свою очередь, задержало готовку… В случае Кости, на котором помимо заработка лежало и множество хозяйственных функций, дикая идея, что муж каким-то образом может отвечать за местонахождение жениной юбки, не представлялась невероятной. И потому была еще более возмутительной. Возмущение подогревалось идиотской задержкой с ужином. Налицо был тотальный непорядок, и я почувствовал, что больше не могу молчать.
– Нина, – сказал я, – ваши семейные дрязги немного затянулись. Давайте так. Я нахожу потерянную вами юбку, вы извиняетесь перед Костей, надеваете юбку, и мы садимся за стол.
– Вы можете найти юбку?! – Она оживилась, явно заинтересованная открывавшимися игровыми возможностями.
– Могу, могу. Скажите, где ее обычное место? В этом стенном шкафу?
(Квартирка была маленькая.)
– Да, но там ее нет, Коська куда-то ее засунул…
– Какого цвета?
– Серая. Но там можете не смотреть, я уже обыскалась…
Я подошел к шкафу, недолго в нем порылся, пошарил под одеждой, вытащил с полу плечико с серой юбкой и с брезгливым торжеством в голосе произнес:
– Эта не подойдет?!
Юбка подошла, мир в семействе был восстановлен, незыблемость моего авторитета, а с ним общей мировой гармонии, подтверждена, ужин с приличествующими случаю тостами откушан, и эвристическая мифологема юбки вошла в мой понятийный фонд. Что же мне в ней так дорого?
Читатель, в сторону откинув эту юбку, ужин, семейные трения, да и само семейство (Костя, увы, давно умер, Нина жива), – что мы имеем в остатке? Мы имеем идеальный случай научного открытия, с мизансценой, выигрышно подающей вторжение постороннего в незнакомую ситуацию, его заведомое превосходство над местными специалистами и спасительное вмешательство.
Путеводным – и недосягаемым – образцом высшего научного пилотажа для меня всегда остается открытие планеты Нептун французским математиком Леверье (1846).[64]
Литературный аналог Леверье – даже не Шерлок Холмс, которому как-никак приходится затратить на раскрытие преступления значительные усилия, с выездом на место и иной раз риском для жизни, а Ниро Вульф, страдающий ожирением сыщик из романов Рекса Стаута, никогда не покидающий своих апартаментов (кстати, нью-йоркских) и расследующий дело из роскошного кабинетного кресла.
Существенно в истории с юбкой и обнаружение ее на полу того же самого шкафа, символизирующее элементарность искомых решений. Отсюда мое нахальное заявление в одной виньетке, что “в любую самую изученную область [филологии], где, казалось бы, не протолкнешься, достаточно просунуть руку, чтобы поднять с полу что-нибудь никем не замеченное, хотя и лежащее на виду”.[65]
Еще раз я убедился в этом пару лет назад, когда прообраз строк о Трике, который смело вместо belle Nina / Поставил belle Tatiana, был идентифицирован мной в “Севильском цирюльнике” Россини, столь любимом Пушкиным. И это при том, что сходное заимствование в “Борисе Годунове” из “Сороки-воровки” того же Россини было давно установлено Томашевским, писавшим и о Трике!
Во всех подобных фокусах важен элемент вдохновенной гадательности, в случае успеха бросающий на успешное решение магический отблеск. Как говорится, с иголкой-то пришить всякий может, ты попробуй без иголки – без собственно научных исследований. Но тем важнее и полная доказанность, не оставляющая сомнений в точности попадания. Птичка из шляпы должна вылетать самая настоящая.
А в тех сферах деятельности, где с птичкой неясно, ее место занимает бесспорность признания – канифоль, необходимая смычку виртуоза. Взыскуюущие ее художники слова разработали (во время, свободное от упражнений на тему равнодушия к хвале и клевете) целый репертуар соответствующих мотивов.
Абсолютный успех – обретение читателей на небе. “Ваш роман прочли”, – говорит мастеру Воланд. То есть прочел Иешуа, в одном лице и персонаж романа, и высший мыслимый судия всего на свете. О чем еще мечтать автору?! Собственно, первый шаг в этом направлении был сделан раньше, когда оказалось, что сочиненное мастером в точности соответствует воспоминаниям Воланда – непосредственного свидетеля событий. “О, как я все угадал!”, восклицает мастер.
Смягченная форма высшего одобрения – мотив посмертной памяти, лежащий в основе горацианского жанра памятника: Нет, весь я не умру (А. Пушкин); ты, как стих, меня зазубришь, как быль, запомнишь наизусть (Б. Пастернак); и то, что я скажу, заучит каждый школьник (О. Мандельштам). В общем, памятник – нерукотворный, рукописи не горят.