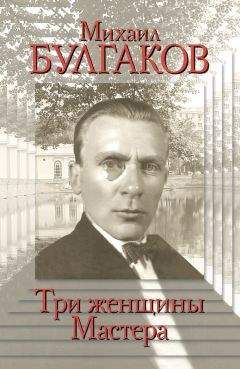Пришедшие угощались сигаретами, благодарственно кланялись Вахтангову, но об основной цели прихода не забывали. Артемий Коциан, крепкий мужчина в двубортном пиджаке, чернобровый, с острым бесстрашным взглядом, едва не упершись грудью в штык красноармейца, заговорил громко и четко:
– Диспут требует наличия двух сторон! С кем вы собираетесь спорить? Сами с собою?!
Его поддержали осетинские учительницы в белых кофточках и длинных черных юбках. Все с надеждой смотрели на Александра Тихоновича Солодова – друга Кирова, Куприна и самого блестящего в городе фельетониста, который за свой фельетон «Смех и слезы» долгое время преследовался полицией, но Солодов лишь криво улыбался, видимо, понимая, что собравшимся не совладать со стоящими у входа красноармейцами и судьба диспута предрешена. Так же думали пришедшие на диспут отставные офицеры, врачи, адвокаты, учителя… Люди оживились, когда к ним присоединилась полная крупная женщина в широкополой шляпе – врач Александра Павловна, внучка знаменитого мореплавателя Крузенштерна, но ее появление не произвело никакого впечатления на красноармейцев. Она подошла вплотную к ним, поскольку была близорука и носила пенсне.
– Это они не пускают?! – неожиданно пробасила она.
– Они, гады! – подтвердил бывший владелец кинотеатра Медведев.
– Буржуйские морды! – не выдержал оскорбления один из красноармейцев и взял штык на изготовку. – Вон отсюда! Паразиты! Недобитки сучьи!
К красноармейцам подоспело подкрепление, и, работая прикладами, они разогнали толпу и закрыли на задвижку входные ворота. Тася с ужасом наблюдала за происходящим и беспокоилась: что-то плохое сегодня может ожидать Мишу.
С гор потянул ветерок, и тусклая лампочка, висящая на сцене, закачалась и стала отбрасывать уродливые тени от сидящих за столом. Астахова красноармейцы выслушали, мало понимая, о чем он говорит, поэтому нервничали и много курили. Но стоило подняться из-за стола Беме, как они засвистели, заорали. Беме поднял вверх руку, призывая их к тишине, но шум в зале усилился, и среди него чаще всего прорывалось одно слово: «Долой!» Оппоненты, понурив головы, покинули сцену под улюлюканье и мат зала. «Диспут» закончился по согласованному с ревкомом плану. Астахов торжествовал. Через несколько дней его снимут с руководства газетой за допущенные ошибки, в том числе за неудачную организацию диспута о Пушкине, но его рьяность и преданность революции заметили и вскоре по информационной линии отправили на работу в Турцию.
После диспута пропал свет, и его участники на ощупь спускались со сцены.
– Миша! – позвала Тася. Он оказался невдалеке, взял ее за руку.
– Борис Ричардович! Где вы?! – проговорила в темноту Тася.
– А мы тут, – раздался голос Юрия Львовича Слезкина. Ему удалось пройти за кулисы, и он наблюдал за диспутом, стоя за задним занавесом. – Приглашаю всех ко мне. Лина ждет нас.
Разбегаться по своим углам после такого потрясения никому не хотелось. Солнце давно скрылось за снежными вершинами, не оставив даже темно-оранжевую зарю. Слезкин жил неподалеку, в Белявском переулке, граничащем с набережной Терека, который в этот вечер не свирепствовал, словно чувствовал, что это будет лишним вкупе с буйством, царившим на его берегах.
Гости расположились на балконе, где не было душно.
– Я был бессилен что-либо сделать, – стал оправдываться Борис Ричардович, – я участвую в судах общественным защитником, для соблюдения формы, не более, ко мне не прислушиваются судьи. Я не могу сослаться ни на одну статью какого-либо из законов, потому что их не существует. Все решается от имени революции – непонятная и неведомая формулировка: грабеж и бандитизм приравниваются, например, к пьянке. И за то и за другое могут расстрелять. Допустимо глумление над Пушкиным. А тем, кто его защищал, я думаю, не поздоровится… Я боюсь за вас, Миша, ваши доводы были наиболее убедительны.
– Переведут в театральную секцию, она в полном развале, – бодро отозвался Михаил.
– А меня уже погнали из Подотдела, – саркастически заметил Слезкин, – чего будем лопать? Я стану писать пьесы, пойду работать в театр, хоть кассиром, хоть контролером…
– Вы? – изумился Беме. – Известнейший на всю Россию писатель! М-да. Впрочем, я вас понимаю. У вас родился сынишка. Как назвали?
– Сашка. Через неделю ему исполнится месяц. Если бы не он, – вздохнул Юрий Львович, – мы бы с женою сидели сейчас в кафе на берегу Средиземного моря. Вдыхали аромат магнолий. Но я не жалею об этом. Я счастлив, что у меня родился сын!
– А вы не подумали, на какую жизнь вы его обрекли? – неожиданно вступил в разговор Михаил. – Я бы сейчас не решился на это. Я прав, Тася?
Тася встрепенулась, поскольку Михаил затронул больную для нее тему, раздумья о которой не раз ранили ее душу. Он не хотел иметь ребенка в Киеве после свадьбы, считал, что рано, он еще не закончил университет, и время для этого не самое подходящее – идет война с Германией. Она послушалась его и сделала аборт, хотя врач был решительно против этого. Потом вдалеке от грозных событий, в Богом забытом Никольском, где жилось более-менее сытно и не было проблем с молоком, она просила Мишу оставить ребенка, но муж сердился, когда она настаивала на своем, однажды даже расплакалась. Сердце его дрогнуло, даже заблестела на реснице слеза, он опустил голову, а когда поднял ее, то в глазах его было море грусти.
– Миша, у нас будет чудесный ребеночек! – воскликнула Тася. – Он снится мне ночами! – сказала и вдруг пожалела об этом.
Ночами Михаил садился за письменный стол. Неужели Миша боится, что ребенок родится больным или будет мешать его писательской работе? Или он думает, что судьба связала их ненадолго? Или уже не любит ее, как прежде?
Мысли, одна страшнее другой, перепутались в ее голове, когда он вдруг посуровел и из его глаз ушла теплота.
– В четверг я проведу операцию! – заключил он.
Видимо, операция прошла неудачно. Длилась дольше обычного. Миша волновался. Бросался к учебнику акушерства. И после операции несколько дней вел себя нервно, мало разговаривал. Тася хотела у него спросить, не потеряла ли она способность материнства, но не решилась, боясь услышать отрицательный ответ или испытать нервозность Миши, еще не отошедшего от наркомании.
На балконе появилась жена Слезкина:
– Подкрепитесь, мальчики, овощами. Я помидоры с огурцами и луком нарезала, добавила постного масла, а лаваш, извините, у меня кукурузный. Ешьте на здоровье, а я пойду к сыночку. Он никак не засыпает.
Борис Ричардович попытался отвлечь компанию от грустных мыслей и стал рассказывать, что до шестого века нашей эры в Африке и на Востоке голову маленького ребенка туго перебинтовывали, чтобы кости росли вверх. И для красоты, и для того, чтобы на его голове лучше сидел шлем.