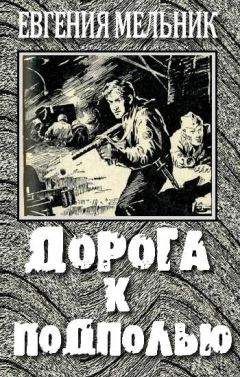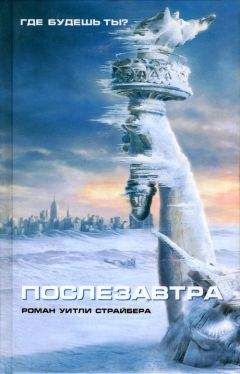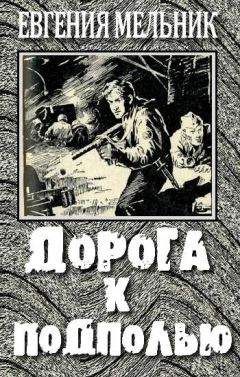Я стала вглядываться в сумеречную даль: не видно ли где партизан. Но всюду было пустынно и тихо. Когда мы уже находились недалеко от станции, воздух прорезал знакомый свист падающих бомб, на железнодорожном пути взметнулись в небо два огненных столба.
— Русский самолет, — сказал румын.
Я смотрела в темнее небо, откуда едва доносился звук мотора, и думала: счастливый человек там в самолете с «Большой земли».
Подъехали к станции Бахчисарай, когда уже совсем стемнело. Нас остановила румынская застава. Здесь сгрудилось много автомашин и подвод. Офицер что-то кричал, никому не разрешая двигаться дальше. Наш солдат слез и пошел объясняться. Вскоре он вернулся, и мы поехали дальше.
— Нас пропустили потому, что мы едем в Бахчисарай, — сказал он, — а на Севастополь не разрешают ехать, пока не соберется побольше подвод и машин: боятся партизан.
Был уже комендантский час, когда мы ехали притихшим городом, погруженным в абсолютный мрак. По дороге встречались патрули, но румынскую подводу никто не остановил. Наконец-то добрались домой — измученные, голодные и промерзшие до костей. Под нашим домом был большой сарай, в двери которого свободно могла заехать подвода с лошадьми, и румыны решили здесь заночевать.
Я никогда не забуду этой картины: на старой поржавевшей кровати, устланной лохмотьями, лежит мой отец. Его голова с зачесанными назад густыми, седыми волосами покоится на рваной подушке. На стене тень от профиля: прямая линия лба, тонкий с горбинкой нос. В изголовье, на грязной облупленной стене нищей комнаты висит огромный, роскошный венок из пышных хризантем, принесенный учениками. Дико выглядят эти хризантемы на грязной стене, так же странно видеть такое благородное, спокойное, будто спящее лицо моего отца на рваной подушке. Веки плотно закрыты, но я вижу выражение его честных, умных глаз, часто добрых, ласкающих, а иногда огненно-гневных от возмущения…
Сейчас, когда я пишу эти строки, слезы льются из моих глаз, сейчас я имею право плакать. Сердце оттаяло, и не шепчет суровый и жесткий голос: «Не смей, ты должна собрать все силы, чтобы выдержать!»
Смерть отца не явилась для меня неожиданностью. С грустью я часто смотрела на него и чувствовала, что голод его сломил и дни его жизни сочтены. Я только молила судьбу об одном: дать ему пожить хоть один год после освобождения, чтобы он умер не в нищете и неволе. Но, увы, так не получилось.
Закончилась жизнь моего отца. В честном труде прошла она. Около сорока лет прожил он в Севастополе. Там его знали почти все. Петр Яковлевич Клапатюк пользовался в городе славой лучшего преподавателя математики, прекрасного педагога, безукоризненно честного человека, уважаемого и любимого многими. В школе он был строг, требователен, но по-товарищески добр. Во время летних каникулярных путешествий отец часто встречал в разных городах Союза своих бывших учеников. Такие встречи были всегда обоюдно радостными.
Вспомнилось, как четыре года назад отец заболел крупозным воспалением легких. Мы все буквально валились с ног, ночами не отходили от кровати. Когда же миновал кризис и отец стал поправляться, врачи сказали: «Вы спасли его своим уходом».
Тогда мы чувствовали себя счастливыми, но теперь… теперь даже об этом жалели. Зачем не дали ему умереть в своей постели, окруженным заботой и любовью?.. Зачем нужно было ему на старости лет перенести столько страданий?
Тихо вошел в комнату солдат-румын, посмотрел на отца, постоял немного у его кровати, перекрестился и так же тихо вышел..
Я подошла к отцу, погладила по волосам, поцеловала в побелевшие, холодные губы, как поцеловала — бы живого. И странно было, что он умер, казалось, просто крепко спит, так безмятежно было папино лицо. Не верилось, что это навсегда и больше никогда, никогда он не проснется.
На столе лежала записная книжка отца, его последняя книжка. В письменном столе в севастопольской квартире много сгорело таких книжек. В них отец систематически, из года в год, записывал даты и краткие заметки о всяких знаменательных событиях, государственных и семейных. Иногда в ходе разговора отец открывал ящик письменного стола и сообщал: в таком-то году зима была особенно суровая и даже такого-то числа появился лед у берегов…
Я стала перелистывать эту последнюю, неоконченную книжку. Наткнулась на перечень бомбежек с указанием чисел, часов начала и конца воздушных тревог — вплоть до последнего месяца осады, когда не было больше уже конца этим тревогам. Потом вдруг на одной страничке увидела, запись: «5 ноября 1943 года ушла Женя». И снова острая боль пронзила сердце. Всю дорогу я мысленно говорила отцу: я вернулась, я иду к тебе, я прощусь с тобой! Опоздала!.. Он не услышит и никогда не узнает. Долго сидела над раскрытой книжкой и смотрела на короткую запись, спрашивая себя: что переживал в последние дни отец? Потом взяла ножницы и отрезала маленький локон седых волос с головы отца. Пусть не все уйдет в землю, пусть останется что-нибудь мне.
Потом мы с мамой легли вместе в кровать и, сломленные нравственной и физической усталостью, заснули тяжелым и тревожным сном.
Наутро принесли гроб. Учащиеся и педагоги завалили всю комнату букетами и венками из хризантем. На кладбище отца провожала огромная толпа, преимущественно дети, которые плакали навзрыд. За гробом несли двенадцать венков. Фашисты останавливались и с удивлением спрашивали: «Кого это так торжественно хоронят?» В покойнике, лежавшем в гробу среди хризантем, они, конечно, не признали того нищего худого старика, который еще недавно ходил, спотыкаясь от слабости, по улицам Бахчисарая.
Знакомство с Ольгой Шевченко и начало подпольной работы
На этот раз, к нашему удивлению, очень легко удалось прописать маму. Или гитлеровцы изменили свои обычаи, или просто им было теперь не до того, но дело обошлось без разрешения от коменданта. Женю сейчас, же определили в школу. С особой теплотой встретили меня в столовой, когда после двойных похорон я в первый раз туда явилась.
— Судьба зверски с тобой обращается, — сказал Иван Иванович, — ну, что ж поделаешь, забудь все, плакать сейчас не время, будем жить по-старому: работать, беседовать, надеяться. На, съешь котлетку, она из хорошей жирной коняки.
— Не хочется что-то, Иван Иванович…
— Я тебе дам не хочется! Ешь, говорят!
Повара, официанты, буфетчица Мария Васильевна, кассирша Шура — все старались сделать мне приятное. Никто ни единым словом не обмолвился о моем горе и ни о чем не расспрашивал. Мура Артюхова принесла попробовать «необыкновенно вкусного» ликера. «Такого ты никогда не пила», — сказала она.