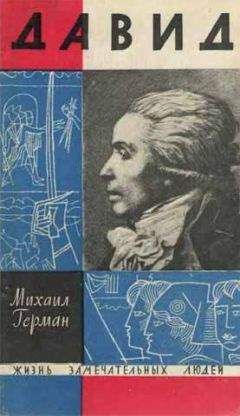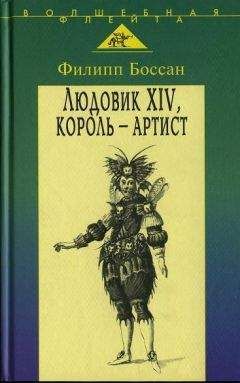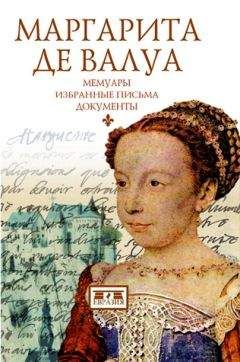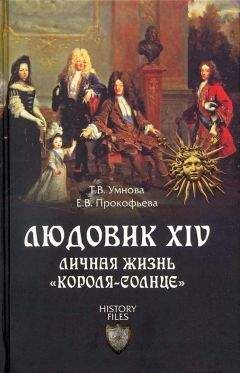Первый консул произнес эти слова с такой уверенностью в том, что нет и не может быть никаких возражений против его желания, что Давид мог бы почитать себя оскорбленным. Но, как всегда, говоря с Бонапартом, он хотел видеть в его словах глубокий, скрытый смысл и подумал, что в таком портрете есть что-то интересное, почти символическое. Он согласился и попросил генерала назначить день для работы.
Бонапарт взглянул на Давида с хорошо разыгранным недоумением:
— Вы хотите, чтобы я позировал?
— По крайней мере надеюсь на это.
— Позировать? Но зачем? Неужели вы думаете, что великие люди древности, чьи изображения сохранились до нас, позировали художникам?
Генерал расхаживал по кабинету с пером в руке. Собственная мысль, видимо, показалась ему удачной. Он остановился перед Давидом, ожидая ответа.
— Но, генерал, я пишу вас для нашего века, для людей, которые вас видели, которые вас знают. Они захотят увидеть вас похожим.
— Похожим? — Бонапарт опять зашагал по комнате; маленькие золотые шпоры тонко звенели по паркету. — Похожим!.. Но ведь не точность черт, не маленькая бородавка на носу создают сходство. Характер, одухотворяющий лицо, — вот что нужно писать.
За такое рассуждение Давид, наверное, не задумываясь, отчитал бы ученика. Но это говорил первый консул, человек, остававшийся необыкновенным в глазах живописца.
Все же он возразил:
— Но ведь одно не мешает другому.
Бонапарт нетерпеливо передернул плечом.
— Ну, конечно же, Александр не позировал Апеллесу. Кому важно, похожи ли портреты великих людей? Достаточно, чтобы в них жил их гений. Вот как следует писать великих людей…
С удивлением посмотрел Давид на маленького худого человека в узком мундире, жестком от золотого шитья. Так беззастенчиво и непринужденно назвать самого себя гением и великим человеком может либо безумец, либо действительно гений.
Просторный кабинет первого консула сверкал драгоценной мебелью. Совсем некстати Давид вспомнил, что это тот самый кабинет, который когда-то принадлежал французским королям. Наверное, мало что здесь переменилось. Только за открытыми дверями вместо камер-лакея солдат в высокой меховой шапке. И Париж за стенами Тюильри гораздо прочнее завоеван Бонапартом, чем королями. Да, перед Давидом полновластный диктатор — тридцатилетний повелитель Франции. Разве он может быть не прав? Он смотрит на мир, как ему заблагорассудится, — ведь он властен изменять его по своему желанию.
Давид смешался, не нашел в себе мужества возразить. Он давно утратил былую твердость. И, почтительно склонив голову, пятидесятидвухлетний живописец ответил молодому генералу:
— Вы правы. Я напишу вас без этого. Вы учите меня искусству живописи.
Бонапарт оставался неизменно любезен с Давидом, поскольку вообще умел быть любезным этот холодный и деспотичный человек, он хотел вполне подчинить живописца своей воле. Давид получал приглашения на приемы, все чаще устраиваемые в Тюильри. Там царила Жозефина Бонапарт и ее дочь от первого брака — Гортензия. В прежних апартаментах Марии Антуанетты возрождались непринужденные и изысканные нравы минувшего века. Здесь не говорили «гражданин», только «м-сье». Жозефина, действительно способная привлекать к себе людей и к тому же пользующаяся заслуженной репутацией дамы не самых строгих правил, собирала вокруг себя всех, в ком нуждался Бонапарт. «Я завоевываю страны, — говорил генерал, — а Жозефина завоевывает мне сердца».
Отказавшись от всех предложенных Бонапартом почетных и выгодных должностей, Давид просил разрешения сопровождать консула во, время его утренних прогулок. Здесь он делился с генералом планами об украшении Парижа, и генерал внимательно прислушивался к замечаниям художника: он умел ценить полезных людей, а Давид, без сомнения, был человеком полезным. Давид же наивно полагал, что сможет возродить таким образом влияние на художественную жизнь столицы, не обременяя себя официальными должностями. Былое честолюбие начинало в нем просыпаться. Происходило это не без влияния судьбы его нового героя: ведь жизнь способна на такие исключительные перемены и метаморфозы, может быть, былое вернется?
Но нелегко поддерживать в себе такие иллюзии; Давида жег только холодный огонь честолюбия, а не искренняя жажда творчества. Сердце оставалось спокойным; зато глаза имели множество острых впечатлений, в которых раскрывался смысл сегодняшнего дня. Новая Франция еще не нашла своего живописца. А жизнь той поры была великолепна, блистательна, если можно называть жизнью ту ее часть, которая оставалась доступна глазам Давида. И, конечно, первым ее героем был Наполеон.
Вполне ясно и недвусмысленно Бонапарт изложил свое представление о будущем портрете. Давиду ничего не оставалось, как согласиться: отступив однажды, он уже не мог возражать.
Как в работе над «Сабинянками», он восполнял живое вдохновение тщательностью построения рисунка — десятки раз передвигал фигуру, искал единственное ее положение в холсте, старался соединить в неразрывное и четкое целое бешеного коня и спокойного всадника. Картина получалась бесстрастной и стройной, как алгебраическое уравнение.
Сходство Давид сохранил. У него остались наброски, да и без них он помнил генерала. Для фигуры позировали старший сын и художник Жерар. Портрет нравился зрителям, восхищаясь Бонапартом, восхищались Давидом. Труднее всего упрекнуть живописца за холодность, тем более, когда она скрыта блеском кисти лучшего мастера Франции. Все было великолепно в картине: вздыбленный конь на краю пропасти, широкий плащ, бьющийся на ледяном ветру, спокойный жест руки генерала, посылающего вперед войска, лицо полководца, лишенное малейшей доли волнения. Все эффектные детали: блестящая сбруя, золоченый эфес сабли, шляпа с галуном, шитье воротника, взметенная грива лошади — были расположены на холсте в продуманном и четком беспорядке и составляли мозаику столь же единую, сколь богатую. Контур фигур всадника и коня мог поспорить с чистотой рисунка античных гемм: линия торжествовала в картине, она билась, жила, двигалась в упругом и четком ритме. На холсте возник живой образ времени, прячущего за ослепительным блеском торжественных церемоний трезвый расчет и за гордостью побед — жажду власти.
На скале, попираемой копытами коня, были начертаны имена Карла Великого, Ганнибала и Бонапарта.
Первый консул остался очень доволен. Впоследствии он заказал три повторения картины.
Звезда Давида вновь поднялась высоко. Не имея никаких официальных должностей, он оставался первым живописцем республики. Позировать Давиду считалось высокой честью, мало кому это удавалось. Одной из немногих, кому выпала эта честь, была мадам Рекамье. Ее портрет занимал Давида, во всяком случае он писал его с бóльшим увлечением, чем портрет консула.