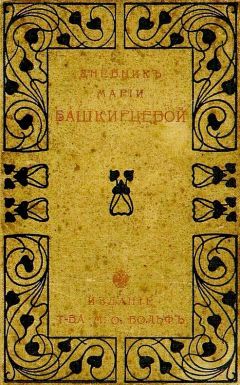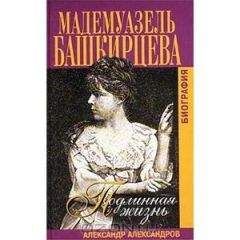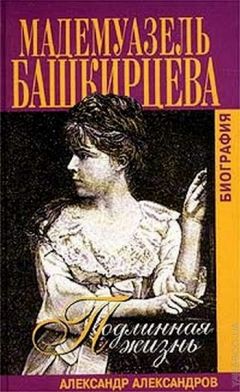Граф все время повторял, что мое место в Петербурге и что непростительно держать меня в Полтаве.
Так вот как! милейший папа!
— Но вы наверно все это выдумали, дядя, — сказала я Александру.
— Чтобы мне никогда не видеть жены и детей, если я сочинил хоть одно слово, пусть гром падет на мою голову!
Отец бесится, на что я не обращаю ни малейшего внимания.
Полтава. Среда, 15 ноября. Я уехала с отцом в воскресенье вечером, повидавшись в последние два дня моего пребывания в России с князем Мишелем и другими.
На поезд провожали меня только родные, но много чужих смотрело на нас с любопытством.
Один переезд до Вены стоит мне около 500 рублей. Я за все заплатила сама. Лошади едут с нами под присмотром Шоколада и Кузьмы, камердинера отца.
Я хотела взять кого-нибудь другого, но Кузьма, горя желанием путешествовать, пришел просить по русскому обычаю, чтобы его взяли с собой. Смотреть за лошадьми будет Шоколад, так как Кузьма — что-то вроде лунатика, легко может забыться, считая звезды, и дать украсть не только лошадей, но и свою одежду.
Он женился на девушке, которая давно его любила, и после венца убежал в сад, где проплакал более двух часов, как безумный. Мне кажется, он немного тронут, и его замечательная глупость сказывается в его растерянном виде.
Отец не переставал сердиться. Я же гуляла по станции, как у себя дома. Паша держался в стороне и не спускал с меня глаз.
В последнюю минуту заметили, что не хватает одного пакета; поднялась суматоха, начали бегать во все стороны. Амалия оправдывалась, я упрекала ее в том, что она дурно исполняет свои обязанности. Публика слышала и забавлялась, и я, видя это, удвоила мое красноречие на языке Данта. Меня это занимало особенно потому, что поезд ждал нас. Вот что хорошо в этой непривлекательной стране: тут можно царствовать.
Дядя Александр, Поль и Паша вошли в вагон; но раздался третий звонок, и все столпились вокруг меня.
— Поль, Поль, — говорил Паша, — пусти меня по крайней мере проститься с нею.
— Пустите его, — сказала я.
Он поцеловал мне руку, и я поцеловала его в щеку, около глаза. В России это принято, но я еще никогда не подчинялась этому обычаю. Ждали только свистка, который не замедлил последовать.
— Ну, что же вы? — сказала я.
— Еще есть время, — сказал Паша.
Поезд качнулся и тихо двинулся, а Паша заговорил быстро сам не зная что.
— До свидания, до свидания, сходите же…
— Прощайте, до свидания.
И он спрыгнул на платформу, еще раз поцеловав мне руку: это был поцелуй верной и преданной собаки.
— Что же? что же? — кричал отец из отделения, так как мы были в коридоре.
Я вошла к отцу, но была так огорчена причиненным горем, что я тотчас же легла и закрыла глаза, чтобы думать свободно.
Бедный Паша! Милый и благородный человек! Если мне жаль чего-нибудь в России, то только это золотое сердце, этот благородный характер, эту прямую душу.
Действительно ли я огорчена? Да. Можно ли не чувствовать гордости при сознании, что имеешь такого друга!
Эту ночь со вторника на среду я спала очень хорошо в постели, как в гостинице.
Я в Вене. В физическом отношении мое путешествие было прекрасно: я хорошо спала, ела и я чувствую себя чистой. Это главное, и возможно только в России, где топят дровами и где в вагонах есть уборные.
Мой отец был очень мил; мы играли в карты и смеялись над путешественниками.
Здесь пахнет Европой. Высокие, гордые дома поднимают мой дух почти до верхних этажей. Низенькие жилища Полтавы давили меня.
Суббота, 14 ноября. Сегодня утром в пять часов мы приехали в Париж.
Мы нашли в Grand-Hotel депешу от мамы. Помещение взяли в первом этаже. Я приняла ванну и стала ждать маму. Но я так огорчена, что ничто более меня не трогает.
Она приехала с Диной; Дина счастлива, спокойна и продолжает исполнять роль сестры милосердия, ангела-хранителя.
Вы понимаете, что никогда еще я не была в таком затруднении. Папа и мама! Я не знала, куда деваться.
Произошло несколько неловкостей, но ничего особенно тревожного.
Мы выехали, мама, папа, я и Дина. Обедали вместе и отправились в театр. Я сидела в самом темном углу ложи и глаза мои так отяжелели от сна, что я почти ничего не видела.
Я легла с мамой и вместо нежных слов, после такого долгого отсутствия, у меня вылился целый поток жалоб, который однако скоро иссяк, так как я заснула.
Понедельник, 21 ноября. После обеда мы отправились смотреть «Павла и Виргинию», новую оперу Массэ, которую очень хвалят.
Парижские ложи — орудия пытки: нас было четверо в лучшей ложе, стоящей 150 франков, и мы не могли двинуться. Промежуток в час или два между обедом и театром, большая хорошая ложа, красивое и удобное платье: вот при каких условиях можно понимать и обожать музыку. Я была в условиях как раз противоположных, что и мешало мне слушать обоими ушами Энгали и смотреть во все глаза на Капуля, любимца дам. Уверенный в успехе, счастливейший артист ломался, как в фехтовальной зале, испуская раздирающие звуки.
Уж два часа ночи.
Мама, которая все забывает для моего благополучия, долго говорила с отцом. Но отец отвечал шутками или же фразами возмутительно индифферентными.
Наконец, он сказал, что вполне понимает мой поступок, что даже враги мамы считали его вполне натуральным, и что следует, чтобы его дочь, достигнув шестнадцати лет, имела покровителем отца. Он обещал приехать в Рим, как мы и хотели. Если бы я могла верить.
Пятница, 25 ноября. До вечера все шло ни хорошо, ни худо, но вдруг начался разговор очень серьезный, очень сдержанный, очень вежливый о моей будущности. Мама выражалась во всех отношениях надлежащим образом.
Но надо было видеть в это время моего отца. Он опускал глаза, свистел, отговаривался.
Существует малороссийский диалог, который характеризует нацию и который, в то же время, может дать понятие о манере моего отца.
Два крестьянина:
Первый крестьянин. — Мы шли вместе по большой дороге?
Второй крестьянин. — Шли.
Первый. — Мы нашли шубу?
Второй. — Нашли.
Первый. — Я тебе ее дал?
Второй. — Дал.
Первый. — Ты ее взял?
Второй. — Взял.
Первый. — Где она?
Второй. — Что?
Первый. — Шуба.
Второй. — Какая шуба?
Первый. — Да мы шли по большой дороге?
Второй. — Шли.
Первый. — Мы нашли шубу?
Второй. — Нашли.
Первый. — Я ее тебе дал?
Второй. — Дал.
Первый. — Ты ее взял?
Второй. — Взял.
Первый. — Где же она?
Второй. — Что?