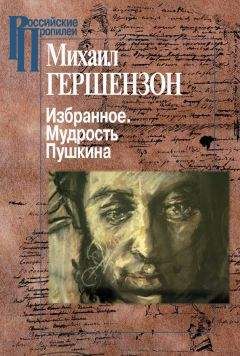III
Из космологии Гераклита, из его основной мысли о природе Абсолютного, вполне последовательно выведено его учение о человеческой душе. Человек не может быть отличен от всех других созданий; то же единое начало – вечно живой огонь или движение – образует и его существо: тот же Логос – вселенский разум и закономерность – управляет и его бытием. Как все существующее, человек есть не вещь сколько-нибудь постоянная, но процесс; он вечно течет. Нет противоположности между душой и телом[71]: тело возникает из огня и непрерывно из него образуется, то есть сама душа в меру своего разгорания и остывания формирует тело. Отдельная человеческая душа, как и душа мира, – огонь, и она живет в непрерывных температурных измерениях, совершающихся не случайно, а закономерно, по неисповедимой воле Логоса. В целом жизнь человека есть остывание огня – от юности, когда он всего жарче, к старости, когда он слабеет, и, наконец, к смерти. В мертвом огонь почти вовсе угас, в нем уже нет божества[72], – оттого Гераклит говорит: «Трупы более надо выбрасывать, чем навоз». Это человеческий «путь вниз»; но душа, а следовательно и тело, совершают и «путь вверх», то есть душа время от времени, по воле Логоса, разгорается.
Далее, согласно общей мысли Гераклита, душа человеческая есть испарение, то есть скопление газов, то раскаляющихся, то остывающих до влажности. Псевдо-Гиппократ, следуя Гераклиту, говорит: «Живые существа, – как все остальные, так и человек – состоят из двух элементов, расходящихся по силе, но действующих согласно, – из огня и воды», и в другом месте: «Душа человека есть смешение огня и воды». Это и есть anathymiasis Гераклита, испарение. Следовательно, душа по своей природе огненна, по своему состоянию газообразна[73]. И подобно тому, как в Космосе самые раскаленные газы образуют солнце, животворящее всю природу, так и в человеке есть сосредоточение их – «самый горячий и самый сильный огонь, всем правящий, все устраивающий согласно природе, недоступный ни зрению, ни осязанию. В нем душа, разум, мышление, рост, сон и бодрствование: он управляет решительно всем здесь (в человеке), как и там (в мироздании), никогда не отдыхая». Этот сильнейший огонь души живет в своих превращениях, то есть в бесчисленных формах остывания. Вечное изменение есть закон души и ее потребность[74]: вечный огонь в душе, по словам Гераклита, «изменяясь, отдыхает», – напротив, всякая остановка, всякая неподвижность – для нее мука: «изнурительно повиноваться одним и тем же господам и работать на них». Эти господа – ее же превращения, формы ее остылости: влажность чувств и плотность тела. Судьба души – и поведение человека – определяются степенью ее горения; ее состояния зависят от количества тепла в ней. Для космологической психологии Гераклита типично его изречение: «Душам смерть стать водою, воде смерть стать землею, из земли же рождается вода, из воды (через испарение) душа». Самое рождение человека есть уже смерть вечно живого огня, то есть его охлаждение: «наша жизнь – смерть богов»; дальнейшее же охлаждение и уплотнение газов, то есть увлажнение души, есть все большее потухание огня. Но душа живет в этих переменах: поэтому она радуется, «падая в рождение», то есть вступая в мир. «Душам, – говорит Гераклит, – наслаждение или смерть стать влажными»: объективно смерть, субъективно – наслаждение. Всего выше в человеке раскаленное, то есть газообразное состояние духа, когда в нем полновластно господствует Логос – разум: «Сухой блеск – мудрейшая и наилучшая душа». Напротив, разрешившись в чувство, душа слабеет – становится влажной. «Пьяный шатается и его ведет незрелый юноша. Он не замечает, куда идет, так как его душа влажна». И всякое чувственное наслаждение все более увлажняет душу, – а чем она влажнее, тем менее разумна.
На той же исходной мысли целиком зиждятся религия, философия, история и этика Гераклита. Нет Бога, который бы извне или изнутри направлял мир, но сам мировой процесс есть Бог[75]. Жизнь мира – неустанное закономерное изменение: она непрерывно течет, подобно реке, вечно та же в смене явлений, без начала и конца, без причины и цели; каждое ее состояние есть цель в себе и не служит средством для достижения высшего. Прогресса нет, – в мире царит один непреложный закон изменения[76]. Точно также нет ни добра, ни зла, – есть только более или менее горячее; – есть огненное – чистое, и остылое или влажное – нечистое. Как ценность любой вещи в мире, так и ценность всякого человеческого побуждения, всякой мысли и истины определяется их огнесодержимостью, количеством присущего им тепла[77]. Добро же и зло – человеческие оценки: для Бога все вещи равны, потому что все они – его состояния: «для Бога, – говорит Гераклит, – все прекрасно, и хорошо, и справедливо: люди же одно считают справедливым, другое несправедливым». Отсюда возможен только один вывод: старайся сохранить в себе жар души, не давай ей увлажняться и остынуть, тем более – отвердеть.
Гераклит учил, как сказано, что человек не в себе обретает истину, но воспринимает ее из воздуха. Это положение можно применить к нему самому: мы увидим дальше, что гигантская мысль, проникающая его учение, была подлинно впитана им из атмосферы общечеловеческого познания. Два с лишним тысячелетия спустя та же мысль провозвестилась поэзией Пушкина, также, разумеется, в субъективном воплощении.
Переходя к поэту, я принужден начать издалека. Поэзия есть искусство слова, и действие, производимое ею, есть тайнодействие слова. Поэтому правильно читать поэта способен лишь тот, кто умеет воспринимать слово. Между тем в наше время это уменье почти забыто. Сам Пушкин многократно с горечью утверждал, что только поэт понимает поэта, толпа же тупо воспринимает поэзию и оттого судит о ней бессмысленно. Наше слово прошло во времени три этапа: оно родилось как миф; потом, когда драматизм мифа замер и окаменел в слове, оно стало метафорой: и наконец образ, постепенно бледнея, совсем померк, – тогда остался безобразный, бесцветный, безуханный знак отвлеченного, то есть родового понятия. Таковы теперь почти все наши слова. Но поэт не знает мертвых слов: в страстном возбуждении творчества для него воскресает образный смысл слова, а в лучшие, счастливейшие минуты чудно оживает сам седой пращур родового знака – первоначальный миф. Слово навеки воплотило в себе миф и образ, но они живут в нем скрытой жизнью: поэт, как суженый, горячим поцелуем воскрешает спящую царевну, как теплом руки согревает окоченевшего птенца, – а читатель, чуждый вдохновения, не видит совершившегося чуда и в живых словах поэзии читает привычные ему отвлеченные знаки. Вот почему поэзия, некогда наставница племен, сделалась ныне праздным украшением жизни, и почему великие поучения, заключенные в ней, остаются закрытым кладом. Итак, чтобы добыть нужную нам часть клада, лежащего в поэзии Пушкина, надо расколдовать его слово.