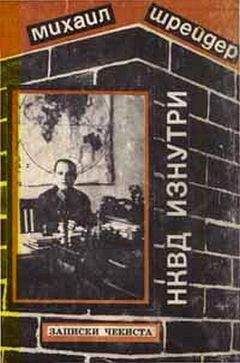— Садитесь, Михаил Павлович, — сказал он, указывая на стул и кладя передо мною на стол какую-то бумагу. — Распишитесь, что читали это постановление.
В постановлении говорилось, что мое дело было спровоцировано, что я ни в чем не виновен и поэтому дело прекращается. Внизу стояли подписи: Ефименко, Кобулова и главного военного прокурора диввоенюриста Гаврилова. Сверху стояло: «Утверждаю. Берия».
Читая этот текст, я не сразу понял смысл прочитанного — все поплыло у меня перед глазами. Я с трудом взял в руки ручку, но не смог подписаться… и очнулся уже на диване, увидев около себя человека в белом халате со шприцем в руках. По-видимому, у меня был сильный и продолжительный обморок. Придя в себя, я долго не мог успокоиться от охватившего меня волнения.
Ефименко поздравлял меня с благополучным завершением дела, успокаивал, говорил, что теперь все мои мытарства закончены и, наверное, я скоро буду освобожден. Меня отправят на курорт, подлечат, и я снова буду работать. Он говорил мне еще много других хороших и теплых слов, а затем отправил меня обратно в камеру.
Не помню уже, в тот же день или на следующий Ефименко снова вызвал меня. Он осведомился, как я себя чувствую, и посадил меня за стол, положив передо мною два объемистых тома.
— Михаил Павлович, поскольку ваше дело закончено, в порядке 206-й статьи УПК ознакомьтесь с материалами следствия. (Возможно, номер статьи я запомнил неверно.)
Я был все еще ужасно взволнован, нервы до крайности напряжены, и, несмотря на то, что все, казалось бы, заканчивается хорошо, я некоторое время не мог взять себя в руки и спокойно читать документы.
Первое, что меня поразило, было то, что санкция прокурора на мой арест была дана в Москве в июле 1939 г., то есть через год и месяц после моего ареста в Алма-Ате.
Затем я начал перелистывать лист за листом, многие из которых раскрывали передо мною трагические судьбы сослуживцев и товарищей, а некоторые наглядно демонстрировали шкурничество ряда трусов и подлецов.
В деле была справка о том, что Хорхорин отказывается от ранее данных им показаний, вынужденных пытками и избиениями, о моей якобы шпионской и террористической деятельности. В конце справки было сказано, что Хорхорин умер в тюрьме от скоротечной чахотки. (Хорхорин был совершенно здоровым человеком, и для меня, равно как и для всех знавших его перед арестом, было ясно, что его попросту убили во время следствия, ведь кровотечение из отбитых легких тогдашним ежовским врачам совершенно естественно было признать чахоткой.)
В следственном деле были справки об отказе от показаний на меня, как вынужденных избиениями и пытками: Чангули, Клебанского, Кондакова, Дунаева и других.
Как это ни покажется странным, но я заплакал от обиды, читая гнусные показания выгнанного мною из милиции за пьянство, взяточничество и разложение некоего Козлова. В связи с его молодостью я пожалел отдавать его под суд — ограничился 15 сутками ареста и увольнением из органов. Как я уже упоминал, начальник УНКВД Журавлев, собираясь фабриковать на меня дело, разыскал всех выгнанных мною пьяниц и взяточников, восстановил их на работе, уговорив написать на меня всяческую клевету. И вот Козлов в своем заявлении написал, что я вообще постоянно избивал своих подчиненных.
Эта клевета показалась мне гораздо обиднее всех лживых обвинений в шпионаже, правотроцкизме, терроре и прочее.
Но были в моем деле и отрадные страницы.
Опуская описание подлости, хочу сказать несколько теплых слов по адресу бессменного водителя моей машины в Иванове, замечательного парня, в прошлом пограничника — Сергея Степановича Курнатова.
Всем товарищам нашего поколения хорошо известна существовавшая в те годы гнусная практика: немедленно после ареста объявлять на партийных собраниях, что такой-то «враг народа» тут же признался в терроре, шпионаже и т. д., независимо от фактического положения дел.
Сейчас не могу вспомнить, от кого и когда я узнал (конечно, не из своего следе гвенного дела, а скорее из чьих-то рассказов), что после моего ареста, когда я еще никаких показании не давал, меня на партийном собрании Главного управления милиции в Москве объявили сознавшимся немецким шпионом и террористом. В печатных органах ЦК Казахстана и в газете «Рабочий край» в Иванове было напечатано, что «в органы пробрался матерый шпион и террорист Шрейдер, который ныне разоблачен».
На собрании работников НКВД и милиции в Иванове так же было объявлено, что я не только сознался в шпионаже, но уже расстрелян.
И вот мой бывший шофер Сергей Курнатов — единственный из присутствующих на этом собрании моих многочисленных подчиненных и сослуживцев ~ встал и заявил:
— С Михаилом Павловичем я работал бок о бок четыре года и никогда не замечал чего-либо, порочащего его как коммуниста. Он горел на работе, выезжал со мною вместе на самые опасные операции, и я не верю, что он враг народа.
На Курнатова, конечно, сразу же набросились с критикой, его тут же сняли с работы, связанной с перевозкой начальства, и посадили на грузовик (на низкооплачиваемую работу), да и то, видимо, только в связи с дефицитностью профессии шофера (а Курнатов был шофером 1-го класса).
Позднее от жены я узнал, что Курнатов, приехав за чем-то в Москву, заходил к жене на квартиру и принес моим малышам какие-то сладости и подарки, купленные на деньги, выделенные из своих скромных заработков.
Много лет я просил немногочисленных товарищей, писавших мне из Иванова, навести справки и узнать адрес Курнатова, но только осенью 1973 года наконец получил письмо от самого Курнатова, который, как оказалось, живет и пока еще работает шофером в Иванове и имеет уже внуков.
Я написал ему большое письмо, в котором сообщал, что считаю его своим самым верным другом. Приглашал к нам в Москву. Правда, пока он приехать не собрался. Теперь мы систематически с ним переписываемся.
Из дела я узнал, кем и при каких обстоятельствах была начата провокация и фальсификация материалов против меня, затеянная еще подчиненными Радзивиловского.
На одном из доносов на меня, который был в деле, Викторов написал заключение не в мою пользу и передал Радзивиловскому. Последний же наложил на нем резолюцию — не то «Чепуха!», не то «Ерунда!» — и не дал ход делу. Итак, выходит, что я обязан жизнью Радзивиловскому, потому что, если бы меня арестовали тогда, в конце 1937 года, вряд ли я остался бы в живых. Чем же можно объяснить такое отношение к моей персоне со стороны Радзивиловского? Возможно, тут сыграли роль старое знакомство и полтора года совместной жизни в одной квартире в Варсонофьевском переулке. Очень любя детей, я постоянно возился с маленьким сынишкой Радзивиловских, Виктором, а жена Радзивиловского, Софья Борисовна, тепло и по-дружески относилась ко мне. Радзивиловский же с большим уважением относился к жене и побаивался ее резкой и справедливой критики.