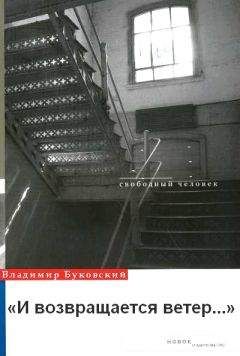Второго декабря, только я успел отдать последнюю пачку обращений одному из смогистов в кинотеатре «Москва» на площади Маяковского, как при выходе на улицу меня окружила целая толпа агентов КГБ. Они почему-то считали, что я вооружен, и буквально тряслись от страха. Плотно сжав меня со всех сторон, так, чтобы я не успел даже рукой шевельнуть, посадили в уже ожидавшую «Волгу». С боков двое, впереди, рядом с шофером, начальник опергруппы.
— Руки вперед, на спинку сиденья. Не двигаться, не оглядываться.
— Закурить можно?
— Нельзя.
Привезли в ближайшее отделение милиции. Обыскали. Как назло, один экземпляр обращения оставил я себе, чтобы сделать еще копии. Больше ничего не нашли. Отвели в дежурную комнату милиции: «Посидите». Подозрительно было, что не повезли сразу на Лубянку или в Лефортово. Чего ждут? Приказа, что ли? Разговорился с милиционерами.
— КГБ забрал? Небось ни за что ни про что? — сочувственно спрашивали они. — Тоже горе-сыщики.
Ненависть милиции к КГБ — штука не новая, много раз нас выручала. Воспользовался я ею и теперь: вытащил свою маленькую записную книжечку с кой-какими адресами и уничтожил. Милиционеры мои даже усом не повели. Кто знает, чьи там адреса были — может, их сыновей…
— Куда меня?
Качают головами, явно не знают.
Минут через двадцать вызвали в кабинет. За столом — женщина в пальто. Перед ней бумаги какие-то и мой экземпляр обращения.
— Здравствуйте. Садитесь. Как себя чувствуете?
А, понятно — психиатр. Сразу можно определить по улыбочке: так понимающе-снисходительно улыбаются только психиатры. И взгляд — словно на букашку смотрит: «Ну, куда ползешь, глупая!..» Будто стакан водки хватил — нахлынул на меня Ленинград с его толпой ободранных безумцев. «Наш маленький Освенцим». Даже запахло больницей.
Все, что я сейчас скажу, каждый мой жест она переврет и запишет в историю болезни. И это непоправимо. Спорить с психиатром бесполезно. Они никогда не слушают, ЧТО ты говоришь. Слушают, КАК ты говоришь. Горячиться нельзя — будет запись: «Возбужден, болезненно заострен на эмоционально значимых для него темах». Аминазин обеспечен. Будешь слишком подавлен, угрюм — запишет депрессию. Веселиться тоже нельзя — «неадекватная реакция». Безразличие — совсем скверно, запишет «эмоциональную уплощенность», «вялость» — симптом шизофрении.
Не выглядеть настороженным, подозрительным, скрытным. Не рассуждать слишком уверенно, решительно («переоценка своей личности»). Главное же — не тянуть, отвечать быстро, как можно более естественно. Все, что она сейчас запишет, никакими силами потом не опровергнешь. Она же первая меня видит — ей вера. Приоритет в психиатрии у того, кто первый видит больного. Через десять минут уже может быть улучшение. Ну, помоги мне Бог и сам Станиславский!
И я говорю таким сердечным, бодрым тоном, точно родной матери:
— Здравствуйте. Спасибо, на здоровье не жалуюсь.
— Два-три рутинных вопроса: фамилия, адрес, год рождения — проверка на ориентированность. Как они все бездарно одинаковы. Сейчас спросит, какое число. А какое? Да, 2 декабря. Три дня до демонстрации. Нет, не спросила. Уф, кажется, первый раунд за мной. Посадить все равно посадят. Только бы лишнего не написала, сука старая.
— Мы вас госпитализируем по распоряжению главного психиатра города Москвы.
— За что же? — изумляюсь я вполне натурально, будто сроду не был в психбольнице. — Никого вроде бы не трогаю. На людей не бросаюсь, не кусаюсь.
Но тут уж ее не проведешь.
— А вот это что? — говорит она, показывая на мой проклятый листочек, и во взгляде у нее опять превосходство. Дескать, знаю я вашего брата, психов. Бегает по городу с листовками в кармане и еще удивляется, что забрали. Нормальный человек этим не занимается. И возражать здесь бесполезно. Даже опасно. Психиатр должен быть всегда прав.
— Да я ее только что нашел. И прочесть-то не успел, — говорю я больше для проформы, чтоб не молчать, без всяких эмоций. Все это уже значения не имеет. Главное — ничего она мне не напишет. Последний раунд тоже за мной. А там, в больнице, все будет заново. Про этот листочек еще говорить и говорить.
Лишь дорогой, в психовозке, переводя дух после беседы, подумал я с тоской: «Эх, мало погулял. Всего девять месяцев. Сейчас бы действовать и действовать — самое время начинается».
Одно было хорошо: санитары попались веселые, и всю дорогу рассказывали мы друг дружке анекдоты про Ленина. Так и прикатили в психушку — городскую психиатрическую больницу № 13 в Люблино.
— Ну, вылезай, политический. Приехали.
Обычная городская больница — просто рай по сравнению со спецбольницей, и, хотя посадили меня в отделение для беспокойных больных, с запорами понадежней, с режимом пожестче, — уже через пару дней я там освоился. Лучшей рекомендацией мне было то, что меня забрали по приказу КГБ, — никто после этого не сомневался в моей нормальности. Врачи, фельдшера, санитары — все были молодые ребята моего возраста или чуть постарше, и мы моментально нашли общий язык, а иногда и общих знакомых.
После первой же беседы со своим врачом, доктором Аркусом, я был уверен, что не только «лечить» он меня не станет, но считает вполне здоровым и постарается сделать все от него зависящее, чтобы освободить. А это было вовсе не просто. Как и везде в СССР, посадить легко, выпустить же — целая проблема. Нужно согласие главврача, а то и целой комиссии. И это еще не все: свое мнение они могли лишь сообщить главному психиатру Москвы, и только он мог принять окончательное решение. Намерений же властей никто не знал — лишь подозревали, что они планируют вернуть меня в Ленинград как «недолечившегося» и «преждевременно выписанного».
Уже на следующий день друзья пронюхали, куда я делся, и пришли целой толпой. Разумеется, все разговоры вертелись вокруг предстоящей демонстрации и ее возможных последствий. Настроения заметно колебались. Случай со мной увеличивал опасения, что всех просто пересажают. Энтузиазм стремительно падал — а вдруг никто не решится прийти? Я очень боялся, что эти настроения возьмут верх, поэтому, когда под конец Юрка Титов напрямик спросил — устраивать демонстрацию или не устраивать, я ответил, что, если теперь ничего не произойдет, это отразится на моей судьбе. Получится, как будто без меня все распалось, и я буду выглядеть главным зачинщиком. На самом деле, это не могло сказаться на мне — скорее наоборот, но уж очень я боялся, что восторжествует пессимизм, и хотел всех связать каким-нибудь моральным обязательством. Конечно, это было нечестно с моей стороны, и я, таким образом, толкал их на действие отчасти против их воли. В известной степени это, однако, решило дело.