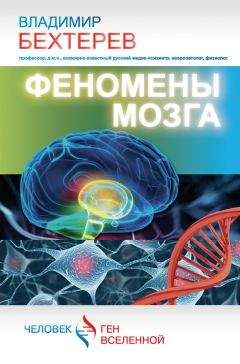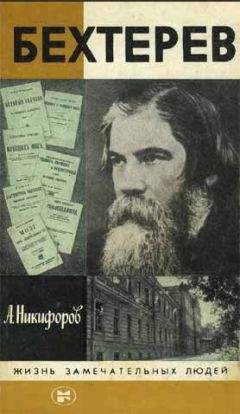охранников, которые, понимая, что двум старым друзьям надо посекретничать, деликатно сохраняли дистанцию, и, повернувшись к Кирову, ответил вопросом на вопрос:
— А что, мы уже воюем с Кобой? — Лицо Орджоникидзе вдруг превратилось в непроницаемую маску. — Он уже многое сделал для сплочения партии, много делает и сейчас и во многом оказался прав, даже в вопросе о кулаке. Ты же сам видишь, как наше сельское хозяйство резко пошло в гору, надо просто немного потерпеть, Коба прозорливее нас, поэтому будем снисходительны к отдельным его недостаткам, даже к его нетерпимости по отношению к нашим критикам, а, Сергей?..
Орджоникидзе неожиданно улыбнулся. Они сердечно простились, трижды расцеловавшись. Киров вошел в вагон, сопровождаемый охраной.
— Может быть, ты и прав, — выглянув, бросил Киров.
— А во всем остальном я с тобой! — улыбаясь, крикнул вслед тронувшемуся поезду Орджоникидзе.
24
Николаев торжественно положил перед собой лист сероватой чистой бумаги и написал: «Посвящается моим детям, Марксу и Леониду». Подумав, он обмакнул перо в чернильницу и размашисто, крупными буквами с легкими завитушками — ему нравились эти овальные завитушки, все крупные писатели не ленились их оставлять — вывел: «Лев Николаев. «За новую жизнь». Это будет титул. Он взял другой лист и написал: «Предисловие». Отложил ручку и задумался.
Он вознамерился оставить детям и Мильде свою подробную биографию. Толстой написал целых три тома — «Детство», «Отрочество», «Юность». У Николаева цель была скромнее: поведать подробное описание своей жизни и своих дел. Прочтут дети, будут читать внуки, правнуки. В душе он не проговаривал явно — потомки, надеясь обессмертить свое имя, но конечная цель была такая: для всех будущих поколений. С этой целью он даже взял в библиотеке «Детство» Льва Толстого, но на четвертой странице споткнулся и читать больше не стал: скучно, длинно и непонятно.
В «Предисловии» он написал коротко: «31-го мая (по нов. ст.) 1934 г. мне исполнилось ровно 30 лет, по этому поводу я даю кратко биографию своей жизни и работы на весь пройденный мною путь». Николаев подумал, что еще можно было бы добавить, но так и ничего не придумав, размашисто расписался: «Лев Николаев» — с завитушками.
После того позорного изгнания из стен института он написал жалобу в районную комиссию партийного контроля с требованием снять с него строгий выговор и восстановить в институте.
Его вызвали в РКК. Сказали, что вопрос о снятии строгого выговора решит специальная комиссия, а восстановление Николаева в должности инструктора Института истории партии целиком зависит от воли директора товарища Лидака. Из комиссии звонили ему, но Лидак категорически отказался брать Николаева не только на прежнюю должность, но и вообще в институт, поэтому они помочь ему тут не в силах. Со своей же стороны, в целях оказания содействия в его трудоустройстве, они могут предложить направление на завод: требуются слесари, плотники, грузчики, разнорабочие, список большой, на разные заводы, к примеру на «Прогресс», Карла Маркса или на тот же «Красный Арсенал», где он когда-то начинал слесарем, а потом строгальщиком. Но Николаев завод сразу отверг, пытаясь втолковать контрольной комиссии, что уволили его из института несправедливо, и РКК должна за него вступиться. Он у Лидака и проявлял ту самую партийную активность, остро критикуя работы некоторых историков за их политическую близорукость. Поэтому от него избавились, мобилизовав на транспорт, чего делать по строгим нормам юридического и морального права не имели, так как он белобилетник и освобожден от службы в рядах Красной Армии по состоянию здоровья.
Это первая несправедливость. Он и Терновской на это указывал, но она проигнорировала его возражения. Далее, товарищ Лидак его уволил не за плохую работу, а по причине исключения из партии. Райком эту ошибку первички исправил, в ряды партии его вернул, а значит, его автоматически должны восстановить и в институте. Николаеву в комиссии снова принялись объяснять, что вопросами подбора кадров в Институте истории партии занимаются не они, а товарищ Лидак, а он категорически не хочет брать Николаева, и они тут бессильны.
Члены контрольной комиссии проговорили с ним четыре часа, так ни в чем и не убедив Николаева. Опальный инструктор ушел с гордо поднятой головой, заявив, что восстановление — в институте дело принципа и, возвратившись домой, написал жалобу в горком, а немного подумав, и в обком, самому Кирову.
Чудов сам принес Кирову это заявление и молча положил на стол. Киров просматривал постановления ЦК «О проработке решений XVII съезда партии в начальной школе» и «О перегрузке школьников и пионеров общественно-политическими заданиями», готовясь к городскому пленуму партии о школе. Оторвавшись от бумаг, Сергей Миронович пробежал глазами заявление и, нахмурившись, взглянул на Чудова.
— Я говорил с Лидаком, но убедить не смог, — ответил Михаил Семенович. — Он аттестует Николаева как склочного, невыдержанного человека, жалобщика, профессионально неграмотного, всего четыре класса образования, не пригодного ни по каким статьям для работы в институте партии. В райкоме ему предложили пойти на завод, он слесарь шестого разряда, но Николаев почему-то отказался. Он считает себя несправедливо уволенным, — кратко обрисовал ситуацию Чудов.
Киров вздохнул. Заявление Николаева напомнило ему о Мильде, с которой он не встречался уже почти месяц. Не звонила и она, понимая, что он занят и не может тратить на нее время. Но Киров не связывался с Мильдой по другой причине. Между ними будто незримо встали Ганины, которым он не только не мог ничем помочь, но и боялся увязнуть в этой истории. Страх, поселившийся в нем еще с той непонятной ему размолвки с Кобой, не затухал. За этот месяц ему несколько раз звонил Поскребышев, передавая различные сведения и просьбы, связанные с его обязанностями секретаря ЦК, члена Политбюро и Оргбюро, но Сталин ни разу не поднял трубку, чтобы переброситься с ним хотя бы парой фраз. Раньше такого не бывало, и любые просьбы Сталин всегда передавал ему сам. Киров тоже ему не звонил. Не было поводов. С Серго они говорили часто. Орджоникидзе как-то сообщил, что он с Ворошиловым, Молотовым и Ждановым приезжал к Кобе в Зубалово, они вспоминали и пили за его здоровье.
— Кто тост предлагал? — спрашивал Киров.
— Я предлагал, но пили все с большим удовольствием, — отвечал шутливо Серго.
О Сталине он не упоминал. И судя по насмешливому