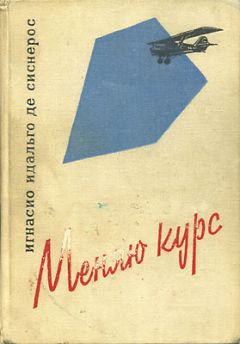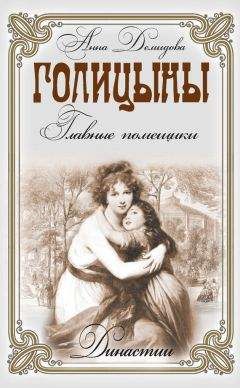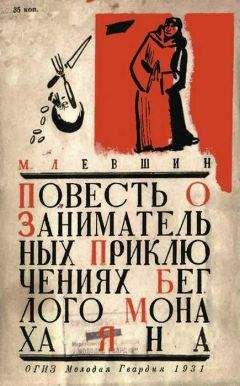И вот с огромной скоростью на одной высоте, лоб в лоб, самолеты начинают стремительно сближаться. Кто кого? Остается уже метров восемьсот. «Фиаты» не выдерживают, открывают огонь. Рановато! Мы пока не стреляем. Бить — так бить точнее!
Одна-две секунды — и настал наш черед. Одновременно хлынул огонь из всех пулеметов. Ведущий «фиат» вздыбился кверху, остальные брызнули во все стороны.
Кольцо разорвано. Смотрю по сторонам — немцы далеко и, кажется, не видят нас.
Вечером я записываю в блокнотик дату боя, помечаю: «Психическая атака» и задумываюсь: «Психическая атака… Противнику она стоила самолета. Мы возвратились на аэродром без потерь, но лишь только схлынуло возбуждение, вызванное боем, многие почувствовали страшную, гнетущую усталость. Нервы сдают…»
— Что они зачастили к нам? — недоумевает Панас. — За какие-нибудь три месяца целые три комиссии! Боюсь, нет ли здесь какого-нибудь подвоха.
Каждый приезд медицинской комиссии меня повергает в тревогу. Ахи и вздохи врачей относительно нашего здоровья становятся все откровеннее. У Панаса все чаще и чаще пошаливают нервы, Бутрым подозрительно кашляет, у меня после Сантандера побаливает грудь. Наши друзья-испанцы тоже выглядят отнюдь не здоровяками. Но ведь идет война, не на курорты же нас посылать, когда нужно воевать, воевать и воевать!
Однако кто их знает, что они думают, эти врачи. В последнее их посещение, осматривая меня, председатель комиссии, главный врач Ратгауз, сокрушенно покачал головой и как бы невзначай заметил:
— На днях мы были в летной школе, как раз после выпуска летчиков. Вот, я вам скажу, где здоровяки. Молодежь!
Как будто мы уже старики! Провожая врачей, я спросил председателя комиссии:
— Неужели нам запретят летать?
— Нет, нет, что вы! — запротестовал он. — Вы еще будете долго летать. Но всем вам необходимо отдохнуть, и отдохнуть основательно, а не так, как вы отдыхаете сейчас, урывками.
Прошло три дня, как комиссия покинула эскадрилью. Начинаем успокаиваться. И вдруг звонок — вызывают в аппаратную. Связист медленно читает распоряжение:
«Смирнову вылететь по готовности на КП. Птухин».
Тороплюсь. Лечу в Валенсию. Чувствую, что опять какое-то важное решение ждет нашу эскадрилью. На КП мне пришлось немного обождать. Советник был занят, а когда освободился, дружески спросил, как наши дела, и смотрел на меня так, будто я знаю, о чем пойдет речь.
Не люблю я эту отвлеченную фразу «как ваши дела?» Всегда за нею следует неожиданный поворот в разговоре.
— О наших боевых делах вы знаете, — отвечаю я.
— Я спрашиваю о другом. Как вы себя чувствуете? Как здоровье других летчиков?
— Здоровье нормальное. Чувствуем себя хорошо.
— Так и знал! — смеется Птухин. — Хоть бы один летчик признался, что чувствует себя неважно! — Командующий открывает ящик стола и достает мелко исписанный лист бумаги. — М-да… А между тем — читайте-ка!
Он передает мне акт медицинской комиссии. Внимание мое сразу же привлекают слова, подчеркнутые красным карандашом: «…Абсолютно необходим продолжительный отдых с прохождением соответствующего курса лечения… Иначе в ближайшее время многие летчики могут оказаться не способными к полетам ввиду крайнего физического и нервного истощения».
— Да, но…
— Никаких «но»! — внушительно прерывает меня Евгений Саввич. — Летная школа в Алкасарес выпустила новый, большой отряд испанских летчиков. Они заменят вас. Иначе и вы не сможете отдохнуть, и молодые летчики останутся не у дел. Сами знаете, машин у нас мало.
Я возражаю; как всякий пытающийся доказать недоказуемое, стараюсь быть изворотливым в своих доводах:
— Молодые летчики не обладают боевым опытом, целесообразнее было бы влить их в наш состав.
— На всех у вас не хватит машин, — просто отводит этот довод Птухин.
— Но мы не настолько устали!
— Вы уже знакомы с актом комиссии. По-моему, этот акт объективен.
Евгений Саввич смотрит на меня пристально и, мне кажется, с огорчением.
— Помните, — тихо говорит он, — мы не можем допустить, чтобы вы раньше времени вышли из строя. Вы еще понадобитесь.
Прошло несколько дней. По-прежнему с утра до вечера мы летали на боевые задания. О разговоре с советником я, конечно, рассказал своим друзьям. Так как я рассказывал в той же последовательности, в какой происходил разговор, то реакция слушателей менялась так же, как и моя: вначале негодование, возмущение, уверения в полном здоровье, затем постепенное согласие.
И вот наступает памятный день — двадцатое декабря. Утром меня вызывают к телеграфному аппарату. Волнуясь, смотрю на узкую белую ленту, испещренную точками и тире. Она медленно ползет из-под валика. Я тороплю телеграфиста:
— Читай!
И он читает:
— «Перегнать самолеты для сдачи. Посадка — Валенсия».
Отвечаю коротко:
— Понял, выполняю.
Кладу телеграфную ленту в карман и выхожу на аэродром. В последний раз поднимаю ракетницу и даю сигнал на вылет. Летчики врассыпную бросаются к своим самолетам. Усаживаюсь в кабину, обращаюсь к механику:
— Хуан! Передай инженеру — после вылета немедленно перебазировать все имущество на Валенсийский аэродром. Мы произведем посадку там. А ты, Маноло, позаботься забрать из общежития все личные вещи летчиков. И приезжайте скорее!
В последний раз мы над Мадридом. Проносимся низко, над самыми крышами, и разворачиваемся на Валенсию.
Я чувствую, что летчики недоумевают. Ведь я им не объяснил цели полета. Они думают, что это очередной боевой вылет, и не понимают, почему я держу курс на десять градусов восточнее, чем обычно, когда мы летали на Гвадалахарский участок фронта. Панас пристраивается ко мне и старается показать, что на Гвадалахару нужно лететь немного левее. Я улыбаюсь в ответ, отрицательно покачиваю головой и показываю рукой — идти прямо. Через несколько минут всем стало ясно, что мы летим не на фронт, а в тыл.
После посадки ко мне подбегает взбудораженный Панас:
— В чем дело, Борис? Почему мы прилетели сюда? Неужели пришло распоряжение?
— Да. Нам приказано сдать самолеты.
И вот наступил час расставания. Механики приехали на автомашинах ночью и, не ложась спать, принялись чистить, подкрашивать наши машины. Мы заблаговременно съездили в город, накупили механикам подарков. Кто знает, как сложатся обстоятельства.
Передаю подарок Хуану, он берет его машинально.
— Я многим тебе обязан, Хуан, — говорю ему. — И прежде всего тем, что сейчас живой и невредимый.
— О! Камарада Борес! Как я рад за вас! Вы увидите свою Родину — Советский Союз!