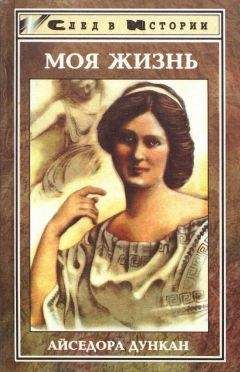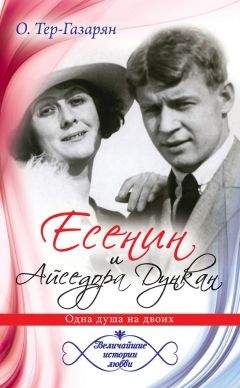Я принес из дома кое-какую посуду. Но это были «кузнецовские», «гарднеровские» и «поповские»[76] коллекционные чашки с блюдцами и еще несколько узких хрустальных бокалов для шампанского.
Среди принесенных мною чашек была одна особенная — золотая, «кузнецовская», тончайшего фарфора. Когда потом Есенин появился на Пречистенке, эта чашка очень понравилась ему, и он всегда пил чай только из нее. Внутри она была ослепительно белой, а внешние стороны ее, рифленые, сверкали чистым золотом. Есенин восторгался ее необычайной легкостью и тонкостью фарфора.
— Вот все говорят: китайский фарфор, французский! — восклицал он. — А посмотрите, каков наш, русский!
Эту хрупкую чашку я потом сохранял долгие годы, но однажды неловкий гость, приподняв ее с блюдца, вертя в руках и приговаривая: «Подумать только, что из нее пил Есенин!» — уронил чашку на стол, она треснула, один золотой кусочек отвалился.
Чашку склеили, и никто из нее никогда уже больше не пил. Совсем недавно (в 1971 году. — Ред.) я расстался с чашкой, подарив ее тезке Есенина, поэту Сергею Александровичу Васильеву[77] в день его 60-летия.
Айседора скучала. Официальные визитеры постепенно схлынули. Школа уже имела большой обслуживающий персонал в шестьдесят человек и целый «организационный комитет», заседавший то в том, то в другом зале.
Вечером приходили знакомые. Был среди них австрийский посланник — доктор Поль; впоследствии он покинул свой дипломатический пост и, оставшись в Советской России, возглавил большое издательство на немецком языке, имевшее общеевропейское значение.
Заезжал Луначарский. Однажды, предупредив заранее, приехал Леонид Борисович Красин[78]. Он был большим любителем музыки, ценил искусство Дункан и был одним из горячих сторонников ее приезда из Лондона в Москву. Дункан решила доставить ему удовольствие — станцевала «Аве Мария» Шуберта — его любимую вещь.
Комитет ежедневно обещал объявить прием детей, но почему-то бесконечно откладывал этот самый важный для Дункан момент, означавший для нее начало работы, к которой она так стремилась.
С тех пор как Луначарский не разрешил Дункан работать в системе Всевобуча, я отстранился от всякого непосредственного участия в организационной работе и лишь по-прежнему поддерживал контакт с самим Луначарским.
Айседора раздражалась:
— Я хочу только «черни хлеб, черни каша», но тысячу детей и большой зал…
Тысяча детей и большой зал были, конечно, утопией.
В Москве было плохо с топливом. Луначарский мог обещать только небольшую школу с интернатом на 40 детей.
Айседора мрачнела. Я тут же стал убеждать ее, что эта группа станет «фалангой энтузиастов», будущими инструкторами. Айседора согласилась, но от своей мечты не отступилась…
Вечером я пошел в редакцию «Рабочей Москвы», написал там короткую заметку об открытии в Москве школы Айседоры Дункан для детей обоего пола в возрасте от 4 до 10 лет и примечание: предпочтение при приеме отдается детям рабочих.
В тот же вечер Айседора, Ирма и я, вооружившись молотками, гвоздями и лестницей-стремянкой, повесили небесно-голубые сукна Айседоры в «наполеоновском зале», завесив и Наполеона, и солнце Аустерлица, и затянули паркетный пол гладким голубым ковром.
— Теперь свет, свет! — кричала Айседора. — Эту люстру убрать невозможно! Сколько в ней тонн? Но мы ее преобразуем! Революция так революция! Долой Наполеона! Солнца, солнца! Пусть здесь будет теплый солнечный свет, а не этот мертвящий белый! — не успокаивалась она.
Я понимал требовательность Дункан. Ее искусство органически требовало полнейшей гармонии музыки и света. Она, конечно, была далека от технологии светооформления, так же как и от законов физики, она говорила просто о вещах, казавшихся ей само собой разумеющимися.
— Вы ведь не представляете себе, чтобы кто-нибудь танцевал «Ноктюрн» Шопена в красном свете, а «Военный марш» Шуберта — в синем? Вспомните знаменитого слепого у Джона Локка[79] в «Опытах о человеческом разуме». Он представляет себе пурпурный цвет как звук трубы…
Нелюбовь Дункан к мертвому белому свету зижделась на тяготении ко всему природному, естественному, в том числе и к теплому солнечному свету. Она категорически запрещала, чтобы прожектор «следил» за ее движениями на сцене.
— Солнечные лучи не бегают за человеком, — говорила она.
Я спустил с недействующей люстры одиноко горевшую вместо лампионов и свеч большую лампу, и Айседора затянула ее оранжево-розовой шалью. Зал сразу потеплел. Возле стены поставили маленький электрокамин. Я заслонил его листом синего целлофана, и в волшебном розовом свете засверкал кусок не то синего моря, не то южного неба…
Айседора предупредила комитет, чтобы к утру все было готово для записи и осмотра детей. Утром же, едва газета с заметкой попала в руки родителей, дети появились: множество девочек и несколько мальчиков. Комитет недаром так долго корпел над своим «положением о школе»: родители привели детей в «школу танца».
Врач осматривал детей, а мы помогали записывать и давали объяснения родителям. Я смотрел, как Тамары, Люси, Мани, Нины, Юли, Лиды то стояли дичком, то шушукались, то вырывались из рук матерей, чтобы взбежать по широкой лестнице белого мрамора, и не думал, что отныне на долгие, долгие годы буду свидетелем их жизни, творчества, их счастья и горечи утрат, побед и поражений в искусстве.
Итак, школа была создана.
5. Встреча с Есениным. «Энергичные слова». Поэты. Есенин читает свои стихи. Три дарственных надписи. Игра в корни. «Волчья гибель». Белые бумажки. Николай Клюев. С. Т. Коненков
Однажды меня остановил прямо на улице известный московский театральный художник Георгий Богданович Якулов[80]. Он был популярен, оформлял в те годы премьеры крупных московских театров.
Кто мог предугадать, что благодаря этой нашей встрече на московской улице в тот же вечер произойдет встреча двух знаменитых людей, о которых вот уже свыше пятидесяти лет пишут и, может, еще долго будут писать газеты и журналы всего мира, создаются поэмы, романы, пьесы, кинофильмы, музыка, картины, скульптуры…
— У меня в студии сегодня небольшой вечер, — сказал Якулов, — приезжайте обязательно. И, если возможно, привезите Дункан. Было бы любопытно ввести ее в круг московских художников и поэтов.
Я пообещал. Дункан согласилась сразу.
Студия Якулова помещалась на верхотуре высокого дома где-то около «Аквариума», на Садовой.
Появление Дункан вызвало мгновенную паузу, а потом начался невообразимый шум. Явственно слышались только возгласы: «Дункан!»