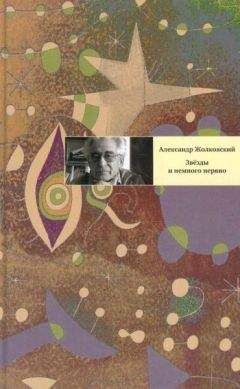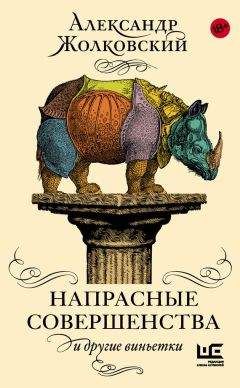На очередной литтусовке я опять встретил Р. Он был уже подшофе, но трагический порох держал сухим.
– Ты видел, как я вчера дал в морду Н.?! Он написал про мою мать, что она была любовницей Ворошилова!! Он был со своей женой – моей бывшей. «Ты жива еще, моя старушка?!» – сказал я. Он сказал: «Пошел вон отсюда!». Тогда я разбил ему лицо в кровь!!! Его увезли!
Я ничего такого не видел, хотя весь вечер вроде бы провел в обществе Р. Но, вопреки обыкновению, его рассказ отдавал какой-то глубинной убедительностью. Подумав, я понял, в чем дело.
Ровно год тому назад Н. уже был подвергнут аналогичной экзекуции, правда, на более высоком, международном, уровне. Тогда книжная ярмарка в европейском городе Ф. была посвящена русской литературе. Ее и избрал сценической площадкой для нанесения пощечины Н. его былой друг и тоже член ахматовского круга филолог М., десятком лет ранее высмеянный Н. в романе-пасквиле «Б. Б. и др.». Как и в этот раз, о пощечине я узнал тогда на другой же день – из уст наносителя, прямиком из Ф. прибывшего в столичный европейский город П. на реке С, где проходила конференция по славистике (в момент рассказывания мы находились на левом берегу).
То, что пощечины литератору Н. складывались в правильный узор (несмотря на его предусмотрительную решимость держаться подальше от города Ф.), не могло меня не радовать – как его оппонента, как любителя инвариантов и вообще эстета. Но были поводы и для беспокойства. Не выглядел ли я в своей роли полемиста несколько бледно? Вместо того, чтобы давно набить Н. морду, как того требует литературный этикет, я отписался виньеткой в малотиражном издании. Не получалось ли, что, оторвавшись от российской почвы с ее дворянскими традициями и гибелью поэтов на дуэлях, я лишний раз расписался в малодушном аутсайдерстве?!
В своих сомнениях и тягостных раздумьях я решил обратиться за квалифицированной оценкой ситуации к местным авторитетам. Я позвонил П.
– Д-да н-нет, – со счастливым заиканием проинтонировал он. – Т-тебя их дела не к-касаются.
– Почему не касаются? – встревожился я. – Потому что я американский профессор?
– Да нет, это н-никого из н-нас не касается. Это их счеты. Нас они к-касаются не больше, чем ра-разборки внутри солнцевской преступной г-группировки.
Инклюзивное «нас» пролило бальзам на мою душу. Чтобы закрепить успех, оставалось вступить в непосредственное соавторство с П.
– Теперь понимаю, Женя. Только не солнцевской, – комаровской.
Осенью 1999 года в Санта-Монику приехал Никита Михалков – в рамках его тогдашнего проекта номинироваться в президенты России. Калифорния была близка ему недавним (1994) Оскаром; наверно, волновал и образ Рейгана, из Голливуда проложившего себе дорогу в губернаторский особняк, а затем и в Белый Дом. В общем, в поисках международной поддержки Михалков прибыл в наш городок со свитой экономических и политических советников, и ему устроили прием в Фонде Милкена. А Фонд разослал приглашения всем кому не лень, в частности на кафедру славистики.
Мы пошли. Таню влекла американская тусовка на высшем уровне, тем более что ей жгла руки новая по тем временам цифровая камера, меня же интересовал Михалков, правда, не как политический деятель, а как автор моей любимой «Неоконченной пьесы для механического пианино». К тому же, милкеновский центр недалеко – в пределах велосипедной досягаемости.
В дальнем углу зала был накрыт небольшой фуршет, и после выступления маэстро и доклада одного из его советников о судьбах России (с цифрами, фактами и диаграммами) наступил момент неформального общения. Михалкова окружили плотным кольцом, но Таня хотела, чтобы я пробился поближе, заговорил с ним – и было что поснимать.
Срочно требовалось придумать умный вопрос – но какой? Я мобилизовал свои дискутантские навыки и, почтительно отрекомендовавшись местным профессором литературы и поклонником его таланта, понес первое, что пришло в голову:
– В «Неоконченной пьесе», в одной из сцен на веранде господского дома есть персонаж второго плана, вечно дремлющий тесть главного героя, которого играет Павел Кадочников. А в «Утомленных солнцем» на аналогичной веранде, но уже советской, некоего интеллигента с раньшего времени играет Вячеслав Тихонов. Напрашивается перекличка между их звездными ролями: оба в свое время сыграли советских разведчиков в немецком тылу, Кадочников – Федотова («Подвиг разведчика»), Тихонов – Штирлица («Семнадцать мгновений весны»). С какой целью был задуман этот эффект?
Михалков посмотрел на меня с сомнением, сказал, что ничего такого ему в голову не приходило, меня тут же оттеснили, но какие-то снимки Таня успела сделать.
Операция «Михалкова – в президенты» вскоре захлебнулась, так что ему пришлось довольствоваться ролями императора Александра III в «Сибирском цирюльнике» и президента Российского фонда культуры и председателя Союза кинематографистов России в жизни. Роль президента РФ досталась, как известно, еще одному нашему человеку в Берлине.
Однажды в молодости я пожаловался приятелю, что такой-то меня не любит. То ли меня, то ли мои сочинения. Приятель спросил: «А он тебе нравится?» – «Нет». – «Так как же ты хочешь нравиться тому, кто не нравится тебе?»
Он был, конечно, прав, и я этот урок запомнил. Урок тем более полезный, что нелюбви в мире гораздо больше, чем любви. Как писал поэт: И этот мне противен И мне противен тот И я противен многим Однако всяк живет.
Но одно дело, когда тебя не любят в порядке взаимности, и совсем другое, когда нелюбовью отвечают на твою любовь. Это урок гораздо более отрезвляющий, и его мне преподнес тот же приятель.
Я всю жизнь любил его, а он меня нет, во всяком случае, не всю жизнь. Я все делал, чтобы заслужить его любовь, но успех имел далеко не пропорциональный своим усилиям.
Тогда я тоже разлюбил его, выражаясь по-хемингуэевски, сначала постепенно, а потом сразу. Так сказать, выучил и этот его урок. Но удивляться, как же так, я его любил, а он меня нет, не переставал.
Но в конце концов я разобрался и с этим, почти самостоятельно.
Как уже говорилось, нелюбви в мире больше, чем любви. Противен мне и этот, противен мне и тот… В частности, мне очень неприятен один старый коллега, и я даже позволил себе выразить это в печати. Ну не буквально это, но все-таки взял и публично лягнул его.
Он обиделся и дал мне это понять. И некоторые общие знакомые стали говорить мне, что я поступил нехорошо. И я задумался о своем поступке и его мотивах.
Ну, мой выпад был, может, и несправедлив, но остроумен, да и претендовал не столько на правду, сколько вот именно на словесный блеск. Так что я не сдавался.