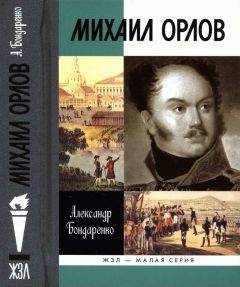«Послушайте, — говорил он Раевской, — что пишет достопочтенный Николай Михайлович: “Начало российской истории представляет нам удивительный и едва ли не беспримерный в летописях случай. Славяне добровольно уничтожают своё древнее народное правление и требуют государей от варягов, которые были их неприятелями. Везде меч сильных или хитрость честолюбивых вводили самовластие…” Как можно! — Михаил отложил книгу в сторону. — Ещё свеж в памяти нашей пример, когда народ российский с гневом отвернулся от Наполеона, обещавшего мужику освобождение от крепости! Но этот самый мужик предпочёл идти в отряд к Денису и встречать непрошеных “освободителей” вилами да рогатиной! Нет чтобы народ наш обратился к своим врагам с такой просьбой — подобного и быть не может! Это противоречит русской натуре. Да и мыслимо ли, чтобы древние племена российские вдруг враз объединились под чуждым владычеством, и сразу же Россия вышла в разряд великих держав?»
Генерал перевёл дыхание, отёр платком свой высокий лоб. Екатерина сидела молча, чуть склонив голову в знак согласия.
«Вослед за великим вашим пращуром, — продолжал Михаил, одушевлённый поддержкой правнучки Ломоносова, — не верю я, что Русь обязана своим величием чужестранному государю. Только истинно народное правление могло образовать славное наше Отечество! И оно одно — разумеется, в ином совершенно качестве — вернёт стране нашей выдающееся положение в Европе и в мире!»
Тут Орлов понял, что наговорил лишнего, и, пробормотав: «Здесь вижу я труд мастеровитого литератора, но не вдохновенного историка…», замолчал. Достаточно хорошо зная Михаила, можно догадаться, что он не ограничился разговорами с близкими ему людьми. В июле 1818 года он писал Вяземскому:
«По свойственному мне чистосердечию, я выбрал тебя посредником между мною и Карамзиным. Ты ему друг и знаешь, сколь я истинно почитаю его качества и дарования. Не имея никакой причины оскорблять самолюбие Николая Михайловича, я хочу только показать здесь впечатление, произведённое на меня чтением его сочинения…
Я ждал “Истории” Карамзина, как евреи ждут мессию; едва она вышла из печати, как принялся я за чтение оной с некоторым благоговением, готовый унизить собственный мой рассудок пред пятнадцатилетним трудом умного писателя. Воображение моё, воспалённое священною любовию к отечеству, искало в истории Российской, начертанной российским гражданином, не торжества словесности, но памятника славы нашей и благородного происхождения, не критического пояснения современных писателей, но родословную книгу нашего, до сих пор для меня ещё не понятного, древнего величия. Я надеялся найти в оной ключ всей новой европейской истории и истолкование тех ужасных набегов варваров, кои уничтожили Римскую империю и преобразили вселенную, а не думал никогда, что история наша основана будет на вымыслах Иорнандеса, уничтоженных Пинкертоном, на польских преданиях, на ложном повествовании о Литве, на сказках исланских[165] и на пристрастных рассказах греческих писателей. Я надеялся, что язык славянский откроет нам глаза на предрассудки всех писателей средних веков, что он истолкует названия тех варварских племён, кои наводнили Европу, докажет единоплеменство оных и соделается, так сказать, началом и основанием истории новейших времён…»{262}
Орлов, как и многие русские патриоты того времени — да и последующих времён тоже, — хотел понять истинную роль России в мировой истории, значение русского народа в огромной семье наций и народностей… Но, к сожалению, ни «История государства Российского» Карамзина, ни последующие «истории» объективного ответа на этот вопрос до сих пор не дали.
* * *
В начале пребывания Орлова в Киеве произошло событие, которое в немалой степени повлияло на его дальнейшую судьбу. В мае 1818 года ушёл в отставку и возвратился в родимый Ганновер главнокомандующий 2-й армией, в состав которой входил 4-й пехотный корпус, генерал от кавалерии, теперь уже граф Беннигсен. Его сменил другой граф и генерал от кавалерии — Витгенштейн.
А ведь на эту должность, которая принесёт «Спасителю Петербурга» титул светлейшего князя и чин генерал-фельдмаршала, претендовал и другой граф…
Весною 1818 года Александр I посетил Крым, и флигель-адъютант полковник Михайловский-Данилевский записал тогда в дневнике:
«Мастерские рассказы и весёлый нрав графа Милорадовича, бывшего душою путешествия в Крыму, заставляли государя и всех нас хохотать. Взирая на его любезность, нельзя было воображать, что он почитал себя в то время жестоко обиженным назначением графа Витгенштейна, младшего его в чине, главнокомандующим 2-ю армиею, вместо Беннигсена. Он мне в тот же вечер в Феодосии открыл своё сердце и сказал, что он намерен был выйти из службы»{263}.
В том же мае скончался главнокомандующий 1-й армией — генерал-фельдмаршал князь Барклай де Толли. На его место император определил престарелого (на пять лет старше усопшего!) генерала от инфантерии барона Остен-Сакена, который также станет генерал-фельдмаршалом и князем…
Понятно, что граф Милорадович переживал. Если б он принял, как ему того хотелось, 2-ю армию, то не только бы жизнь его пошла совершенно по-иному, но и грядущая «Орловская история», возможно, приняла бы иной оборот, да и восстания декабристов могло бы не быть… Об этом, впрочем, в своё время!
* * *
Начавшийся 1818 год оказался богат на события. Вскоре Орлову сообщили, что Союз спасения распущен. В своих показаниях он пишет достаточно путано:
«Во время моего пребывания в Киеве начальником штаба 4-го корпуса я более, нежели когда-нибудь, был привержен к свободным мыслям, тем более что речь покойного государя на первом сейме польском возбудила во мне рвение и упование. Я тогда в полном смысле следовал правилу его императорского величества, ненавидел преступления и любил правила французской революции. (“Необходимо отделять преступления от принципов революции” — слова его императорского величества, сказанные в тронной речи на открытии первого польского сейма. — Прим. Орлова.) Сей дух свободомыслия, управляющий всею моею перепискою и всеми моими речами, поддерживал доверенность Общества, которому я ещё не принадлежал. Тогда я познакомился с некоторыми членами, а именно: с Михаилом Фон Визеным[166], с Охотниковым[167] и с Пестелем[168]… Само собой разумеется, что не будучи членом Общества до самого моего выезда из Киева, я никого в Общество принять не мог.