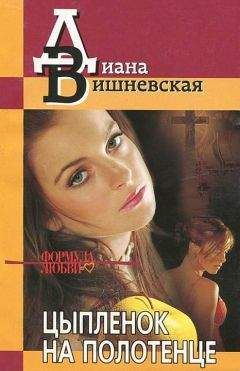Казалось бы, можно, в конце концов, отбыть трудовую повинность, но дело в том, что выбывший из Москвы теряет свою прописку и уже не может жить в Москве. А это трагедия всей жизни.
Итак, «столица нашей родины» готовилась к первому Международному конкурсу имени Чайковского, как вдруг за три месяца до начала его по всей стране разнеслась весть, что за границей напечатан роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго», не принятый к печати в СССР. Это было неслыханно! Москва гудела, как улей, люди ни о чем другом не говорили, строили догадки, какие меры предпримут власти против крамольного писателя. Если б жив был Сталин — расстреляли бы, и дело с концом. Но тут совсем недавно прошел XX съезд партии, на закрытом заседании которого Хрущев впервые за все годы существования советской власти вслух заговорил о культе личности и его последствиях. Уже маячил впереди день, когда Сталина, так приятно почившего под бочком у Ленина, выволокут из мавзолея и после долгих дискуссий, куда его девать, закопают как падаль под стенами древнего Кремля. В общем, напустил Никита туману, и никто не знал, в какую сторону ветер подует. Во всяком случае, братья-писатели пока не кидались в открытую атаку, а пребывая в полной боевой готовности, ждали команды сверху. А наверху с удовольствием бы придушили Пастернака, да вот беда: первый Международный конкурс имени Чайковского через три месяца. Назвали гостей со всех концов мира, знаменитых музыкантов, да многие из них еще и по-русски говорят. Так и щелкала зубами свора, но егеря команды не давали.
А тут и еще спохватились, что неувязочка вышла: оказывается, председатель оргкомитета — бывший «враг народа», «продажный формалист» Дмитрий Шостакович. Что тут делать? Не гнать же его в шею! Иностранцы — народ непонятливый, дотошный, вопросы начнут задавать. И не скажешь ведь иностранной знаменитости: «Пшел вон! Не твое свинячье дело!» Тот по недомыслию, пожалуй, еще и оскорбится, они ж до сих пор не поняли, что такое советская власть. Да и к самому композитору могут наведаться. Ничего, дадим Шостаковичу Ленинскую премию ко дню рождения вечно живого Ильича, что как раз совпадает с днями конкурса, пусть иностранцы увидят, как советская либеральная власть чествует своего формалиста. В общем, нужно было срочно заметать следы с Шостаковичем и другими композиторами-формалистами, и Пастернака пока не тронули. Первый конкурс Чайковского шел как по маслу, если не считать того, что свалившийся как снег на голову американец Вэн Клайберн отобрал у Советского Союза первую премию на конкурсе пианистов. Событие настолько неожиданное и из ряда вон выходящее, что по случаю сей сенсации правительство во главе с Никитой Хрущевым явилось на заключительный концерт. Думаю, что это было первое и последнее посещение зала консерватории правительством Советского Союза. Ложа, предназначенная для них, всегда пустует, но, тем не менее, билеты в нее никогда не продают. Всё надеются, что вдруг вожди возжаждут высокого искусства и нагрянут на какой-нибудь симфонический концерт. На моей памяти не нагрянули ни разу, если не считать концерта, о котором идет речь. Пришли поглядеть на тощего, длинного американца, обскакавшего всех советских пианистов и ставшего кумиром публики «Ваню Клиберна», которому после его выступлений люди тащили на сцену пироги, водку и балалайки.
Дмитрий Шостакович по долгу службы, как председатель оргкомитета, вручал награды музыкантам, и счастливые молодые иностранцы теряли разум от того, что видят живого Шостаковича и даже имеют честь пожать ему руку. Тут и пришло в буйные головы наших вождей, что, пожалуй, неприличная для них ситуация складывается, а они при сем присутствуют и, аплодируя со всеми вместе, чествуют великого композитора XX века, недобитого советской властью Дмитрия Шостаковича. Они уже давно и забыли, за что его травили, — ведь не до смерти, и то ладно. Вот, вся эта ситуация привела к тому, что через месяц после конкурса, взяв утром газету, мы прочли партийное постановление «об исправлении ошибок в оценке творчества ведущих советских композиторов». Значит, здорово допекли наших вождей неуместные вопросы западных интеллигентов, раз вынуждены они были признать ошибкой беспримерную в мировой культуре травлю советских музыкантов. Если б не первый конкурс Чайковского — уверена, что никогда не вышло бы это постановление: ведь партия не ошибается. Да и прошло с тех пор уже 10 лет.
Дмитрий Дмитриевич позвонил нам домой:
— Галя, Слава, скорей приезжайте ко мне! Скорее!
Мы кинулись к нему на Кутузовский. Дмитрий Дмитриевич был в невероятно возбужденном состоянии, почти бегал по квартире и, едва успели мы снять пальто, повел нас в столовую.
— Дмитрий Дмитриевич, вы, конечно, читали?
— Читал, да-да, читал… Вот, ждал вас, ждал вас, чтобы выпить… выпить хочу… выпить.
Налил в стаканы водку и — со злостью:
— Ну, давайте выпьем за «великое историческое постановление» об отмене «великого исторического постановления»!
Выпили мы залпом до дна, и Дмитрий Дмитриевич стал напевать на мотив лезгинки:
Должна быть музыка изящной,
Должна быть музыка прекрасной…
События этого дня откинули его на десять лет назад, в черные дни 1948 года, и мы сидели, боясь не то что словом, а движением, дыханием коснуться вдруг раскрывшейся перед нами его кровоточащей раны. Это была одна из редких его откровенных минут, и нам было страшно, что мы невольно заглянули через случайно открывшуюся щель в его душу и увидели клокочущий в ней вулкан, так тщательно скрываемый им от людей. Мы все старались говорить о посторонних предметах, но Дмитрий. Дмитриевич — вдруг снова:
— Историческое, понимаете, постановление об отмене исторического постановления… Вот ведь так просто, так просто…
Мы видели, как мучительны для него нахлынувшие воспоминания об уничтоженных годах творческой жизни. Пытались увести разговор в другую сторону, но он, видимо, не мог владеть собой, не мог избавиться от засевшего в его мозгу в этот день образа Сталина и его подручного Жданова и все снова напевал на мотив лезгинки:
Должна быть музыка изящной,
Должна быть музыка прекрасной…
Заговаривал о каких-то пустяках, умолкал и вдруг — как продолжение мысли:
— …Вот, изящной должна быть, понимаете, музыка, изящной, изящной…
— Дмитрий Дмитриевич, а что, вы думаете, будет с Пастернаком?
— Плохо будет, плохо будет. Нельзя было отдавать за границу… Нельзя… С волками жить — по-волчьи выть…
Кому, как не ему, уже не однажды испытавшему всё на собственной шкуре, было предсказывать ход дальнейших событий.