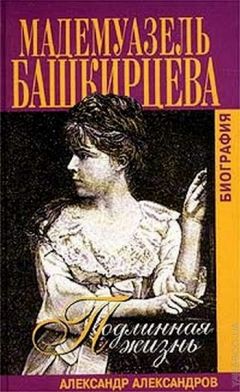Впрочем, не одна она так считала. Эдмон Гонкур записал в дневнике, узнав о смерти Гамбетты, что «будь еще в живых принц Бонапарт — через две недели с республикой было бы покончено». Выходит, что Гамбетта действительно был душой республики.
На Францию обрушился шквал материалов о Гамбетте. Все журналы были заполнены только одной темой: «Жизнь и смерть Леона Гамбетты». Повсюду продаются его портреты, памятные медали.
Башкирцева жалуется, что не может работать, хоть и пробовала, пыталась заставить себя. Она жалеет, что не бросила все и не отправилась в Вилль-д’Авре, чтобы осмотреть комнату, в которой он умер и сделать наброски. Впрочем, она это сделает позже. Обратим внимание, что Гамбетта совершенно посторонний для нее человек, политик чужой страны, она ведь, давайте не забывать, российская поданная. И такие переживания по поводу его смерти. Все дело в славе, ведь тот умер в ореоле славы. Переживать — значит, разделить эту славу, почувствовать ее горький привкус, насладиться приторным запахом смерти великого деятеля, быть скрипкой или арфой в оркестре, играющем похоронный марш. А вот через некоторое время умрет ее отец, человек никому неизвестный, и переживаний — ноль. И даже попрощаться ним перед смертью не поедет.
А пока тело Гамбетты перевозят в Париж и назначается день погребения.
6 января 1883 года вся семья встает у окон особняка их знакомых на улице Риволи.
«Колесница, предшествуемая военными горнистами на лошадях, музыкантами, играющими траурный марш, и тремя огромными повозками, переполненными венками, возбуждала чувство какого-то изумления. Сквозь слезы, вызванные этим грандиозным зрелищем, я различала братьев Бастьен-Лепажей, идущих почти около самой колесницы, сделанной по их проекту; архитектор, которому брат, не нуждающийся в отличиях для увеличения своей знаменитости, великодушно уступил первенство, шел, неся шнур от покрова. Колесница низкая, как бы придавленная печалью; покров, из черного бархата, переброшен поперек нее вместе с несколькими венками; креп; гроб, обернутый знаменами. Мне кажется, что можно было бы пожелать для колесницы больше величественности. Может быть, впрочем, это оттого, что я привыкла к пышности наших церковных обрядов. Но вообще они были совершенно правы, оставив в стороне обычный фасон погребальных дрог и воспроизводя нечто вроде античной колесницы, вызывающей в воображении мысль о перевозе тела Гектора в Трою».
Мария наверняка не может не удержаться и хотя бы мысленно не прорепетировать собственные похороны и обдумать «фасончик» своей погребальной колесницы. Позднее мы с вами это увидим.
Никогда до сих пор никто еще не видел такого количества цветов, траурных знамен и венков. Вот она истинная слава!
«Признаюсь без всякого стыда, что я была просто поражена всем этим великолепием. Это зрелище трогает, волнует, возбуждает — не хватает слов, чтобы выразить чувство, непрерывно возрастающее. Как, еще? Да еще, еще и еще — эти венки всевозможных величин, всех цветов, невиданные, огромные, баснословные, хоругви и ленты с патриотическими надписями, золотая бахрома, блестящая сквозь креп. Эти груды цветов — роз, фиалок и иммортелей, и потом снова отряд музыкантов, играющих в несколько ускоренном темпе погребальный марш, грустными нотами замирающий в отдалении, потом шум бесчисленных шагов по песку улицы, который можно сравнить с шумом дождя…»
О чем еще можно мечтать! Вот она слава в своем материальном воплощении! Вот какие должны быть похороны!
«Крыльцо палаты убрано венками и завешено, как вдова, гигантским черным крепом, спадающим с фронтона, окутывающим его своими прозрачными складками. Этот креповый вуаль — гениальное измышление, нельзя придумать более драматического символа. Эффект его потрясающий; сердце замирает, становится как-то жутко». (Запись от 6 января 1883 года.)
Она оценивает похороны с эстетической стороны, она испытывает эстетическое удовольствие от созерцания смерти. Если бы она добралась до гроба, то с удовольствием описывала бы нам покойника, как через несколько дней описывала его жилище.
17 января она попала в дом Гамбетты в Вилль д’Авре. Жюль Бастьен-Лепаж работает в доме над картиной «Гамбетта на смертном ложе». Все складки на кровати, увядшие цветы, вся обстановка остались нетронутыми. Прежде, пока лежало тело, он прописал только его. Можно понять, какова была популярность Бастьена, если именно ему заказали эту картину.
Они приехали туда с архитектором и Диной. Марию поражает скромность жилища известного политика, которого, кстати, многие обвиняли в любви к роскоши. Домик похож на сторожку садовника. Гамбетта умер в маленькой каморке с грошовыми обоями и дрянными занавесками, до потолка которой спокойно можно достать рукой. Всей мебели в комнатке: кровать, два бюро да треснувшее зеркало. На стене виден след пули, ранившей Гамбетту.
Слезы накатываются на глаза Марии, она подает руку работающему Бастьен-Лепажу, прежде, чем выйти из комнаты. Ей необходимо, чтобы он заметил ее слезы. Она постоянно думает о том эффекте, который хочет произвести. Уж коли слеза накатилась, надо, чтобы ее заметили. Глупо, конечно, сознается она в дневнике, но все-таки сознается.
Бастьен ей дорог, поэтому она постоянно и думает об эффекте, который производит на него. Имя Бастьен звучит для нее, как припев, когда она весела. Ее волнует, как она считает, уже не только личность, наружность, талант Жюля Бастьена, а просто его имя.
Она пишет своих мальчиков, Жана и Жака, а думает о Бастьене, как бы не подумали, что ее мальчики похожи на его детей, ведь за последнее время он столько написал их. За девятнадцать дней она заканчивает картину, которую сразу хвалит Тони Робер-Флери, особенно одну из головок.
— Вы никогда еще не делали ничего подобного!
Одним словом, славная вещица. Жулиан тоже находит, что картина хороша.
На Салон 1883 года она представляет сразу три вещи: две работы маслом, «Жана и Жака» и портрет натурщицы Ирмы, а также пастель «Портрет Дины».
В жюри на сей раз сам Робер-Флери, но все равно ж она волнуется. Однако, волнения напрасны: все три работы принимаются, о чем Тони уведомляет ее запиской прямо с заседания жюри. Правда, работа Бреслау, ее вечной соперницы, как бы случайно будет повешена лучше. Но ведь и написала она портрет дочери хозяина «Фигаро», одной из самых влиятельных газет Франции, а не какую-нибудь натурщицу. Проживи Мария Башкирцева подольше, и она бы научилась лести и дипломатии, столь необходимых для достижения столь вожделенной ею славы.
Приходит депеша из России, что очень болен отец, но Мария отказывается ехать, потому что есть вещи поважней, чем здоровье ближайших родственников: живопись, Салон, слава. По утрам она одевается в белое, играет на арфе или на рояле, потом, переодевшись в черную робу с белым жабо, работает до вечера. Пишет она свой портрет, который теперь находится в музее Жюля Шере в Ницце. Такая жизнь для нее — наслаждение. Жизнь слишком коротка и так не успеваешь ничего сделать. Разговора о России и быть не может. Туда уезжает ее мать.