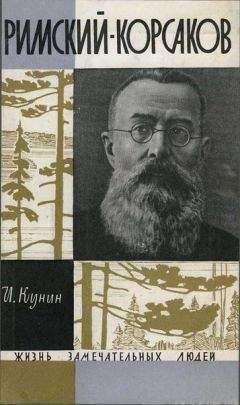Лето Сергей Михайлович проводил на своей даче в Кратово, по большей части на веранде второго ее этажа. Там висел тугой разноцветный мексиканский гамак, на столе лежало огромное сомбреро, причудливые маски и всякие экзотические вещи, привезенные из его давней поездки в Мексику, где он снял фильм, который, по указу хозяина, не был выкуплен. Живший напротив Эйзенштейна знаменитый гомеопат Жаке, вскидывая горбоносую седую голову, прописывал ему какие-то шарики, стараясь ими отдалить предсказанную гипнотизером Вольфом Мессингом смерть в 50 лет. Эйзенштейн храбрился, острил, строил планы написания истории мирового кино. (Немало, кстати, смутив меня предложением сотрудничать с ним в этом, и для начала написать историю колеса), был то ироничен, то задумчив. Все чаще и сильнее были у него сердечные приступы, и 10 февраля 1948 года на своей квартире в Москве он умер от инфаркта пятидесяти лет от роду. Сильному поношению подверглись за свои не угодившие "лучшему другу кинематографистов" фильмы и режиссеры Луков и Довженко. Однако, по большей части, кинематографисты хорошо изучили вкусы своего лучшего друга и старались, ни в коем случае не раздражая его, создавать все же художественные фильмы, и иногда это удавалось, хотя реакция вождя народов всегда была непредсказуема. Был только один режиссер, который действовал наверняка и твердо знал, что за каждый новый фильм он получит Золотую медаль лауреата Сталинской премии первой степени. Это был когда-то далеко не бездарный Михаил Чиаурели, который на все лады, не останавливаясь перед самой наглой фальсификацией и безудержной лестью, воспевал своего кумира (фильмы «Клятва», "Падение Берлина", "Незабываемый 1919 год").
Но вот прошли два с небольшим года после того, как великий вождь умер, набальзамированный труп его был помешен в мавзолей рядом с телом Ленина, и на фронтоне мавзолея к слову «Ленин» было добавлено слово «Сталин». Верхушка пирамиды кровавой тирании была скошена смертью. Это сказалось во многих областях. Фильмов, например, стали делать больше и на запрет или выпуск их на экран уже недостаточно было движения пальца или брови одного властителя.
Растерявшиеся киночиновники, от мнения которых внезапно стало что-то зависеть, к чему они не были приучены, которые пуще смерти боялись ответственности, вынуждены были допускать к кинопроизводству и молодых…
Так или иначе, жена была далеко, и я позвонил моим друзьям, супругам Свете Корытной и Яше Харону. Попросил их купить побольше цветов, коробок конфет и тортов и приехать завтра утром ко мне. Бешеные старики-вахтеры все равно не выпустили бы меня с территории больницы за покупками. Потом я позвонил нашему экспедиционному фотографу Андрею Петренко и попросил его, захватив Харонов, приехать за мной на моей машине…
До самого закрытия корпуса бродил я по аллеям больничного сада, возбужденный мыслью о предстоящей завтра выписке. Пришел я и к моргу. Там, оказалось, есть еще совсем другая дверь, которая была широко раскрыта и вела в довольно большую комнату. В центре ее на пьедестале стоял гроб с телом Ардальона Ардальоновича, окруженный многими венками цветов. Я подошел к гробу и поклонился Ардальону Ардальоновичу. Потом поцеловал руку его дочери и вернулся в сад, пройдя мимо довольно большой группы людей, в основном молодых…
Когда я вернулся в корпус, двери уже запирали. Все койки в нашей палате были снова заняты. Послеоперационные новички из числа жепеэшников хрипели и стонали, еще не прийдя в себя от наркоза. Я лег на койку, и передо мной с беспощадной ясностью сменяя друг друга, вставали сцены из рассказанного мне Павликом и Марией Николаевной. Понимая, что так, да еще под хрипы и стоны, я всю ночь не усну, я попросил Галю сделать мне укол понтапона и решил думать совсем о другом — о моих друзьях, которые должны были наутро забрать меня из больницы.
Впрочем, и их судьба была не из легких. Остроумный изящный Яков Евгеньевич Харон окончил Берлинскую консерваторию. Он жил в Германии с родителями, работавшими в нашем торгпредстве. Сразу по окончании консерватории вернулся в Москву, стал работать на Мосфильме звукорежиссером с такими мастерами, как Г.Рошаль, В.Строева, Е.Дзиган, И.Пырьев и др. Его талант, любовь и преданность искусству кино, понимание специфических особенностей киноязыка, позволяли ему создавать сложные звуковые образы, навсегда вошедшие в историю кино, например, щемящий звук струны летящей в море гитары, расстрелянной вместе с группой моряков в фильме "Мы из Кронштадта".
Яша покорил всех молодостью, изысканностью манер, юмором и даже некоторым снобизмом. В 1937 году он был арестован. После неправдоподобных по зверству, извращенности и жестокости пыток ОСО дало ему 10 лет как немецко-фашистскому шпиону. В лагере он встретился с инженером Юрой Вейнертом, таким же, как он «шпионом», также получившим 10 лет — тогда еще больше не давали. Встав над страшными условиями существования, друзья придумали мифического французского поэта Гийома дю Вентре (от Георгия Вейнерта), очевидца и одну из жертв Варфоломеевской ночи, лихого гасконца, друга Агриппы д’Обинье и самого Генриха Наваррского. От имени этого поэта они сочиняли на смешливые и гневные, любовные и саркастические сонеты. Многие из лирических сонетов были посвящены маркизе Л., т. е. Люсе, любимой девушке Юры, работавшей тогда в ВТО.
Путем, неведомым властителям, но испокон века существующем для гонимых, томик стихов Гийома дю Вентре попал к нам из бесовского царства концлагерей. На обложке изящно оформленного томика было написано: "Гийом дю Вентре. Злые песни Сонеты. Перевод со старофранцузского Г. Вейнерта и Я.Харона. Chalon sur Marne — Комсомольск-на-Амуре". В предисловии излагалась краткая биография поэта, описывались бесчинства Лиги, Варфоломеевская ночь, изгнание и т. д. Сообщалось о трудностях перевода со старофранцузского, приводилась строфа на старофранцузском и различные варианты ее перевода. Был помещен портрет автора в шляпе со страусовым пером, с локонами, падавшими на плечи — искусная дорисовка фотографии Юры. Далее шли 64 сонета, позже их стало 100. О них, да и подробно о судьбе авторов, надо писать особо. Если Бог даст мне силы, я надеюсь это сделать. Пока же ограничусь самыми краткими сведениями. Эпиграфом ко всему сборнику сонетов можно было бы поставить строфу из одного:
Что когти филина орлиным крыльям?
Не раздробить морским валам гранит!
Так мысль моя над смертью и Бастилией
Презрительное мужество хранит.
… Стремясь попробовать облегчить страшную участь Яши и Юры, мы давали почитать сонеты не только друзьям, но и разным писателям, имеющим вес в официальном мире. Среди отдавших должное блестящему гасконцу были К.Симонов, известный шекспировед Морозов и даже Илья Эренбург. Однако на все просьбы помочь узникам, поклонники их творчества только беспомощно разводили руками. Поэт Николай Адуев, единственный из всех, сказал: "Я всю жизнь занимаюсь историей французской литературы эпохи Лиги и Варфоломеевской ночи. Не было такого поэта Гийома дю Вентре. Это мистификация, но мистификация блестящая по таланту и вкусу."