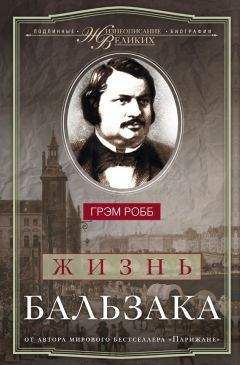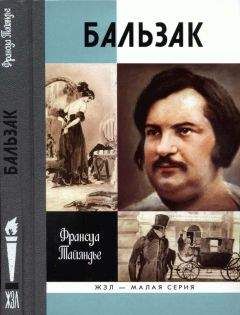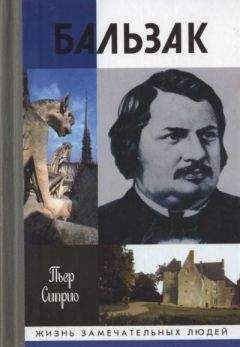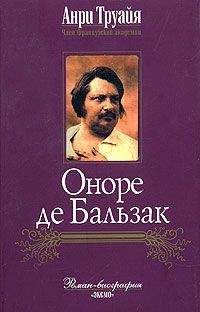Не все его метания и смены курса объясняются депрессией или нехваткой денег. Несмотря на байроническое бахвальство, Бальзак столкнулся с одной практической трудностью, не знакомой почти никому из собратьев по перу. Когда у писателя столько идей, трудно чем-либо пожертвовать. Бальзак считает, что счастье можно восстановить или заменить чем-то другим; но как же его литературные труды, которые могли так и не появиться на свет? Переписка Бальзака переполнена этими зародышами, вроде «Сражения» или семидесяти неопубликованных или ненаписанных «Озорных историй». На каждое созданное произведение приходится несколько утраченных. В письмах Бальзак гораздо чаще сокрушается о них, чем радуется оконченным трудам. Как он жаловался Эвелине Ганской в 1838 г.: «Я часто приканчиваю сельский домик при свете одного из моих больших домов, сжигая его дотла»496.
Альтернативой этому бесконечному рассеиванию и интеллектуальному обжорству было посвящение себя всецело женщине или искусству. И здесь тоже было чего бояться – он боялся снова упасть на дно, как скряга, который вынужден поставить на карту все свои деньги.
В августе 1831 г. Бальзак опубликовал незабываемую притчу, которая дополняет «Шагреневую кожу», показав другую сторону дилеммы. В «Неведомом шедевре» великий художник Френхофер десять лет трудится над картиной такой прекрасной и такой невыразимо совершенной, что любит ее, как любовницу. Ученику Френхофера, Порбусу, и молодому художнику Никола Пуссену наконец позволяется увидеть сказочную картину:
«– Видите вы что-нибудь? – спросил Пуссен Порбуса.
– Нет. А вы?
– Ничего…
Предоставляя старику восторгаться, оба художника стали проверять, не уничтожает ли все эффекты свет, падая прямо на полотно, которое Френхофер им показывал. Они рассматривали картину, отходя направо, налево, то становясь напротив, то нагибаясь, то выпрямляясь.
– Да, да, это ведь картина, – говорил им Френхофер, ошибаясь относительно цели такого тщательного осмотра. – Глядите, вот здесь рама, мольберт, а вот, наконец, мои краски и кисти… – И, схватив одну из кистей, он простодушно показал ее художникам.
– Старый ландскнехт смеется над нами, – сказал Пуссен, подходя снова к так называемой картине. – Я вижу здесь только беспорядочное сочетание мазков, очерченное множеством странных линий, образующих как бы ограду из красок.
[Старик подслушивает их разговор]…
Френхофер некоторое время рассматривал свою картину и вдруг зашатался:
– Ничего! Ровно ничего! А я проработал десять лет!»
Этот замечательный рассказ глубоко тронул Пикассо, который иллюстрировал его и позже переехал в бывший Отель д’Эркюль, который располагался в доме номер 7 по улице ГранОгюстен, в котором, как он утверждал, Бальзак и поместил студию Френхофера497; именно там в 1937 г. Пикассо создал «Гернику». По словам Эмиля Бернара, в сумасшедшем художнике себя видел и Сезанн. Когда его как-то спросили о Френхофере и «Неведомом шедевре», «он встал из-за стола и, остановившись передо мной, несколько раз ткнул себя в грудь указательным пальцем, тем самым признаваясь, правда молча, что герой рассказа – он. Он так растрогался, что на его глаза навернулись слезы». Сезанн считал, что Бальзак «понял» его гораздо лучше, чем Золя, чьего Клода Лантье в романе «Творчество» (L’Oeuvre) он считал образом самого себя: один был импотентом из-за гения, второй – «импотентом от рождения»498.
Ирония, которую Бальзаку хватило мужества постичь и испытать так рано в своей короткой биографии, заключается в том, что невозможное желание совершенства разрушает произведение искусства. «Неведомый шедевр» доказывает, что дисциплинированный художник в своем вымышленном мире пользуется абсолютной властью, но как ему передать свое видение другим? Как может художник, не удовольствовавшийся простым копированием реальности, полагаться на собственное суждение? С течением времени расширяется пропасть между мечтой и ее воплощением.
Отчасти проблему решит громадная, всеохватная «Человеческая комедия», хотя и она сама останется лишь фрагментом. И все же Бальзак считал, что знает ответ на свой вопрос. Он был убежден, что равен своей мечте. Его убежденность проступает в поразительном свойстве Бальзака. Он любит вмешиваться в логический ход собственных произведений. При кратком пересказе сюжета его «уклоны» останутся незаметными. Френхофер сходит с ума, как того требует логика повествования, и все его картины погибают в огне. Но – как будто Бальзак не способен был противостоять желанию оставить надежду для себя и других художников – перед тем, как холст сгорел, на нем можно было мельком заметить потрясающий фрагмент оригинального замысла. Не самую красивую часть тела, но самый совершенный образчик:
«Подойдя ближе, они заметили в углу картины кончик голой ноги, выделявшийся из хаоса красок, тонов, неопределенных оттенков, образующих некую бесформенную туманность, – кончик прелестной ноги, живой ноги. Они остолбенели от изумления перед этим обломком, уцелевшим от невероятного, медленного, постепенного разрушения. Нога на картине производила такое же впечатление, как торс какой-нибудь Венеры из паросского мрамора среди руин сожженного города.
– Под этим скрыта женщина! – воскликнул Порбус, указывая Пуссену на слои красок, наложенные старым художником один на другой в целях завершения картины».
Пока правительственные войска подавляли мятеж в Париже, Бальзак уехал в Турень, надеясь обрести в Саше мир и покой. Его психическое здоровье стало предметом заботы и нездорового интереса других, и он хотел дать «славный отпор» сплетникам, уверявшим, будто он постепенно сходит с ума. Этот отпор должен был принять форму романа, в конце концов получившего название «Луи Ламбер» (Louis Lambert): в нем повествуется о гении, который переходит грань реальности и живописно сходит с ума. Да, Бальзак любил и умел подливать масла в огонь. Словно забыв свой же совет избегать изложения своей жизни на публике – он называл последнее доказательством слабого воображения и худшим видом проституции499, он во всех подробностях описал в «Луи Ламбере» собственное детство: Вандомский коллеж, чудаков-учителей, монастырский режим, голубей, запах, собратьев-страдальцев. Рассказчик, который представляется автором «Шагреневой кожи»500, считает себя лучшим другом злосчастного мальчика-гения, Ламбера. Бальзак, должно быть, верил, что тем самым он рассеивает слухи. В рукописи он ссылается на собственный позорный отъезд из Вандомского коллежа: «Родители, встревоженные моим психическим состоянием… забрали меня из школы и отправили в Париж»501. Намек на его таинственный срыв был благоразумно изменен502; и все же сам роман, с его концовкой и таинственными высказываниями человека в состоянии каталептического транса – «Мысли» Луи Ламбера, – едва ли следует считать плодом совершенно рационального творчества. Не требовалось большой сообразительности, чтобы понять, что рассказчик и безумец – две стороны одной и той же личности. И снова творчество Бальзака преследовало свои цели, вопреки замыслам автора.