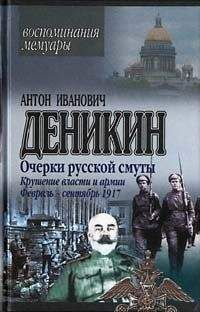Командный элемент относился к вопросу национализации двойственно. Большая часть совершенно отрицательно, меньшая с некоторой надеждой, что, порывая связь с Советом рабочих и солдатских депутатов, создаваемые заново, национальные части могут избегнуть ошибок, увлечений демократизации, и стать здоровым ядром для укрепления фронта и создания армии. Генерал Алексеев решительно противился всем попыткам национализации, но поощрял польские и чехословацкие формирования. Генерал Брусилов самовольно разрешил первое украинское формирование, прося затем Верховного главнокомандующего «не отменять, и не подрывать тем его авторитета»[197]. Полк оставили. Генерал Рузский также самовольно приступил к эстонским формированиям[198] и т. д. Вероятно по тем же мотивам, по которым некоторые начальники допускали формирования, но в обратном их отражении, вся русская революционная демократия, в лице советов и войсковых комитетов, восстала против национализации армии. Целый ряд резких резолюций и постановлений послышался со всех концов. Между прочим, и киевский совет рабочих и солдатских депутатов, в середине апреля, в резких и возмущенных выражениях, охарактеризовал явление украинизации, как простое дезертирство и шкурничество, и большинством 264 голосов против 4, потребовал отмены образования украинских полков. Интересно, что таким же противником национализации явилась польская «Левина», отколовшаяся от военного съезда поляков в июне из-за постановления о формировании польских войск.
Правительство недолго сохраняло свое первоначальное твердое решение против национализации. Декларация 2 июля, наряду с предоставлением Украине автономии, разрешила и вопрос национализации войск: «правительство считает возможным, – продолжать содействовать более тесному национальному объединению украинцев в рядах самой армии, или комплектованию отдельных частей исключительно украинцами, насколько такая мера не нарушит боеспособности армии… и находит возможным, – привлечь к осуществлению этой задачи самих воинов-украинцев, командируемых Центральной радой в военное министерство, генеральный штаб и Ставку».
Началось великое «переселение народов».
Еще ранее «председатель украинского войскового генерального комитета» Петлюра разослал своих агентов – к сожалению, русских офицеров, – по всем фронтам, в качестве военных представителей комитета. Помню, такой полковник – не то Павленко, не то Василенко – был и в Ставке, и неоднократно обращался ко мне, скрывая свое официальное назначение, за разрешением украинских формирований, вкрадчиво уверяя, что он – только русский офицер, глубоко предан идее русской государственности и, вместе с своими единомышленниками, стремится лишь ввести в надлежащее русло «стихийное, народное стремление к самоопределению» и дать русской армии здоровые части. Другие агенты разъезжали по фронту, организуя в войсках украинские громады и комитеты, проводя постановления, резолюции о переводе в украинские части, о нежелании идти на фронт под предлогом «удушения Украины» и т. д. К октябрю, украинский комитет Западного фронта призывал уже к вооруженному воздействию на правительство, для немедленного заключения мира…
В качестве главнокомандующего Западным и Юго-западным фронтами (июнь-сентябрь), я категорически воспретил начальствующим лицам входить в какое-либо сношение с «войсковым генеральным комитетом» и его агентами. Но работа комитета продолжалась почти официально, помимо и параллельно командованию, внося неизмеримые затруднения в мобилизацию, комплектование, перевозку и перемещение войск.
Петлюра уверял, что в его распоряжении имеется 50 тысяч украинских воинов. А командовавший войсками Киевского военного округа полковник Оберучев[199] свидетельствует: «в то время, когда делались героические усилия для того, чтобы сломить врага (июньское наступление)… я не мог послать ни одного солдата на пополнение действующей армии… Чуть только я посылал в какой-либо запасный полк приказ о высылке маршевых рот на фронт, как в жившем до того времени мирною жизнью и не думавшем об украинизации полку созывался митинг, поднималось украинское жёлто-голубое знамя и раздавался клич:
– Пийдем пид украиньским прапором!
И затем – ни с места. Проходят недели, месяц, а роты не двигаются ни под красным, ни под желто-голубым знаменем.
Возможно ли было бороться с этим неприкрытым шкурничеством? Ответ на этот вопрос дает тот же Оберучев, – ответ, чрезвычайно характерный своим безжизненным партийным ригоризмом:
«Само собой разумеется, что можно было силой заставить исполнять свои распоряжения. И сила такая в руках у меня была». Но «выступая силой против ослушников, действующих под флагом украинским, рискуешь заслужить упрек, – что ведешь борьбу не с анархическими выступлениями…, а борешься против национальной свободы, – и самоопределения народностей. А мне, социалисту-революционеру – заслужить такой упрек, да еще на Украине, с которой я связан всей своей жизнью, было невозможно. И я решил уйти»[200].
И он ушел. Правда, только в октябре, незадолго до большевистского переворота, пробыв в должности командующего войсками важнейшего прифронтового округа почти пять месяцев.
В развитие распоряжений правительства, Ставка назначила на всех фронтах определенные дивизии для украинизации, а на Юго-западном фронте кроме того 34-й корпус, во главе которого стоял генерал Скоропадский. В эти части, стоявшие обыкновенно в глубоком резерве, двинулись явочным порядком солдаты со всего фронта. Надежды оптимистов с одной стороны, и страхи левых кругов с другой, что национализация создаст «прочные части» (по терминологии слева – контрреволюционные) быстро рассеялись. Новые украинские войска носили в себе все те же элементы разложения, что и кадровые.
Между тем среди офицерства и старослуживых многих славных полков, с большим историческим прошлым, переформированных в украинские части, эта мера вызвала острую боль и сознание, что теперь уже близок конец армии[201].
В августе, когда я командовал Юго-западным фронтом, из 34 корпуса ко мне начали приходить дурные вести. Корпус как-то стал выходить из прямого подчинения, получая непосредственно от «генерального секретаря Петлюры» и указания, и укомплектования. Комиссар его находился при штабе корпуса, над помещением которого развевался «жовтоблакитный прапор». Старые русские офицеры и унтер-офицеры, оставленные в полках за неимением щиро-украинского командного состава, подвергались надругательствам со стороны поставленных над ними, зачастую невежественных украинских прапорщиков и солдат. В частях создавалась крайне нездоровая атмосфера – взаимной ненависти и отчуждения.
Я вызвал к себе генерала Скоропадского, и предложил ему умерить резкий ход украинизации и, в частности, восстановить права командного состава, или отпустить его из корпуса. Будущий гетман заявил, что об его деятельности составилось превратное мнение, вероятно, по историческому прошлому фамилии Скоропадских[202]; что он истинно русский человек, гвардейский офицер и совершенно чужд самостийности; исполняет только возложенное на него начальством поручение, которому сам не сочувствует… Но вслед за сим Скоропадский поехал в Ставку, откуда моему штабу указано было… содействовать скорейшей украинизации 34-го корпуса.
Несколько иначе обстоял вопрос с польскими формированиями. Временное правительство объявило независимость Польши, и поляки считали себя уже «иностранцами»: польские формирования существовали фактически давно, на Юго-западном фронте, правда разлагающиеся (кроме польских улан); дав разрешение украинцам, правительство не могло уже отказать полякам. Наконец, центральные державы, создавая видимость польской независимости, также предусматривали образование польской армии… окончившееся, впрочем, неудачно; формировала польскую армию и Америка на французской территории.
В июле 1917 г., формирование польского корпуса было возложено Ставкой на Западный фронт, в бытность мою там главнокомандующим. Во главе корпуса я поставил ген. Довбор-Мусницкого[203], ныне командующего польской армией в Познани. Сильный, энергичный, решительный, бесстрашно ведший борьбу с разложением русских войск и с большевизмом в них, он сумел создать в короткое время части, если не вполне твердые, то во всяком случае разительно отличавшиеся от русских войск дисциплиной и порядком. Дисциплиной старой, отметенной революцией – без митингов, комиссаров и комитетов. Такие части вызывали и иное отношение к себе в армии, невзирая на принципиальное отрицание национализации. Передача имущества расформированных мятежных дивизий, и полная предупредительность начальника снабжения, дали возможность корпусу вскоре, поставить и свою хозяйственную часть. По приказу, офицерский состав польского корпуса комплектовался, путем перевода желающих, солдатский – исключительно добровольцами или запасными батальонами; фактически началась ничем не устранимая тяга с фронта по тем же побуждениям, которыми руководствовались русские бойцы, опустошая поределые ряды армии.