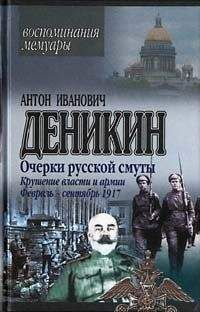«В выступлении на позицию Путвильского полка, категорически отказать», ибо солдаты штурмовой роты «выступили не с той целью, чтобы сидеть на одном месте, не двигаясь вперед, и быть сторожами своих окопов…, а идти вперед, на что мы были уже готовы; то мы только и имеем стремление работать там, где есть дружная работа. Пусть нам никто не ставит в укор, что мы своей сотней человек не берем такого укрепления, которое можно только штурмовать всем полком, и то дружно… Просим отправить нас туда, где идет дружная защита нашей Родины… в боях под Станиславовым. А буде, что мы не получим удовлетворения, то будем вынуждены отправиться туда добровольно, как нас на то дело и призывали».
Тоже – бунт. Но… кто может, пусть осудит их.
На защиту Родины поднялись и женщины.
«Ни один народ в мире, – говорилось в одном из воззваний московского женского союза, – не доходил до такого позора, чтобы вместо мужчин-дезертиров шли на фронт слабые женщины. Ведь это равносильно избиению будущего поколения своего народа». И далее: «женская рать будет тою живою водой, которая заставит очнуться русского старого богатыря»…
Увы! Рука, сделавшая этот красивый жест, беспомощно повисла в воздухе.
В Петрограде и в Москве образовались «Всероссийские женские военные союзы». Приступлено было к формированию нескольких батальонов (4–6) в столицах и некоторых больших городах; при одном из училищ (кажется, в Москве, при Александровском) было устроено отделение, из которого выпущено несколько десятков женщин-прапорщиков. Один батальон Бочкаревой, сформированный раньше других, принял участие в наступлении в июле, на Западном фронте.
Что сказать про «женскую рать»?..
Я знаю судьбу батальона Бочкаревой. Встречен он был разнузданной солдатской средой насмешливо, цинично. В Молодечно, где стоял первоначально батальон, по ночам приходилось ему ставить сильный караул для охраны бараков… Потом началось наступление. Женский батальон, приданный одному из корпусов, доблестно пошел в атаку, не поддержанный «русскими богатырями». И когда разразился кромешный ад неприятельского артиллерийского огня, бедные женщины, забыв технику рассыпного строя, сжались в кучку – беспомощные, одинокие на своем участке поля, взрыхленного немецкими бомбами. Понесли потери. А «богатыри» частью вернулись обратно, частью совсем не выходили из окопов.
Потом один из женских батальонов остался у Зимнего дворца – защищать членов Временного правительства, всеми покинутых в памятный день октябрьского переворота…
Видел я и последние остатки женских частей, бежавшие на Дон, в знаменитом корниловском кубанском походе. Служили, терпели, умирали. Были и совсем слабые телом и духом, были и герои, кончавшие жизнь в конных атаках.
Воздадим должное памяти храбрых. Но… не место женщине на полях смерти, где царит ужас, где кровь, грязь и лишения, где ожесточаются сердца и страшно грубеют нравы. Есть много путей общественного и государственного служения, гораздо более соответствующих призванию женщины.
Выдвигая целый ряд суррогатов армии, никто, однако, не имел смелости осуществить идею, совершенно логичную, вытекавшую из основной цели всех этих, искусственно создаваемых, революционных, ударных, женских и прочих частей, носившуюся в сознании очень многих, и даже нашедшую частичное отражение, в мыслях Верховного комиссара Станкевича…
Я говорю об офицерских добровольческих отрядах.
Нет сомнения, что своевременно созданная сильная офицерская организация, имела много шансов на решительный успех в борьбе с большевизмом, в первую стадию его властвования. К сожалению, ни Керенский, ни тем более революционная демократия, не допустили бы ни под каким видом подобного образования. По личным мотивам они были, конечно, правы; офицерскими войсками, после всех событий первого периода революции, после установившихся – и не по офицерской вине – ярко-враждебных отношений, и Керенский и Совет были бы насильственно устранены. Эта «потеря» была бы не слишком велика, если бы такою ценою стране удалось, не погружаясь в реакцию, претворить социальную революцию 1917 года в буржуазную, и избегнуть ужасов большевизма, отодвинувшего, быть может, на столетие нормальное развитие всей русской жизни. Но если все это – только более или менее спорные предположения, то, во всяком случае, для меня является совершенно бесспорным одно положение: исход революции во многом зависел от армии. Пути революции были бы другие, если бы революционная демократия, словом, делом и помышлением, не противопоставляла офицерский корпус народу, а привлекла бы его к служению народу. Ибо при всех своих великих и малых недостатках, офицерство превосходило все другие русские организации, способностью и желанием жертвенного подвига.
Казалось бы, что если не формирования, то, по крайней мере, подготовка офицерской организации на случай падения «существовавшего строя» и фронта – а это предчувствовалось всеми совершенно ясно – была необходимой. Но представители активного начала томились в тюрьме. Главный совет офицерского союза, которому наиболее соответствовала эта задача, был разгромлен Керенским в конце августа, а в сознание большинства ответственных руководителей армии, глубоко проникла страшная, и небезосновательная тревога за судьбу русского офицерства. В этом отношении, очень характерна переписка генералов Корнилова и Духонина. После большевистского переворота, 1 ноября 1917 года, генерал Корнилов из Быховской тюрьмы писал Духонину: «Предвидя дальнейший ход событий, я думаю, что Вам необходимо безотлагательно принять такие меры, которые, прочно обеспечивая Ставку, дали бы благоприятную обстановку, для организации борьбы с надвигающейся анархией». В числе их генерал Корнилов указывал: «сосредоточение в Могилеве, или в одном из ближайших к нему пунктов, под надежной охраной, запаса винтовок, патронов, пулеметов, автоматических ружей и ручных гранат, для раздачи офицерам-волонтерам, которые обязательно будут собираться в означенном районе».
Против этого пункта Духониным сделана пометка: «это может вызвать эксцессы».
Таким образом, постоянные, болезненные опасения офицерской «контрреволюции» оказались напрасными. События застали офицерство врасплох, неорганизованным; растерявшимся, не принявшим никаких мер даже для самосохранения – и распылили окончательно его силы.
Глава XXX. Конец мая и начало июня в области военного управления. Уход Гучкова и ген. Алексеева. Мой уход из Ставки. Управление Керенского и генерала Брусилова
1 мая оставил свой пост военный министр Гучков. «Мы хотели, – так объяснял он смысл проводимой им «демократизации» армии, – проснувшемуся духу самостоятельности, самодеятельности и свободы, который охватил всех, дать организованные формы и известные каналы, по которым он должен идти. Но есть какая-то линия, за которой начинается разрушение того живого, могучего организма, каким является армия». Нет сомнения, что эта линия была перейдена еще до 1 мая.
Я не собираюсь давать характеристику Гучкова, в искреннем патриотизме которого я не сомневаюсь. Я говорю только о системе. Трудно решить, чьи плечи могли нести тяжкое бремя управления армией в первый период революции; но, во всяком случае, министерство Гучкова не имело ни малейшего основания, претендовать на роль фактического руководства жизнью армии. Оно не вело армии. Наоборот, подчиняясь «параллельной власти» и подталкиваемое снизу, министерство, несколько упираясь, шло за армией, пока не пододвинулось вплотную к той грани, за которой начинается окончательное разрушение.
«Удержать армию от полного развала, под влиянием того напора, который шел от социалистов, и в частности, из их цитадели – Совета рабочих и солдатских депутатов, – выиграть время, дать рассосаться болезненному процессу, помочь окрепнуть здоровым элементам, – такова была моя задача», – писал Гучков Корнилову в июне 1917 года. И это несомненная правда. Весь вопрос в том, достаточно ли решительно было сопротивление разрушительным силам. Армия этого не ощущала. Офицерство видело вокруг военного министра – ранее твердого и настойчивого политического деятеля, послужившего много восстановлению русской военной мощи, после манчжурского погрома, – его помощников Поливанова, Новицкого, Филатьева и других, до крайности оппортунистов или даже демагогов. Оно читало приказы, подписанные Гучковым, и ломавшие совершенно основы военной службы и быта. Что эти приказы явились реэультатом глубокой внутренней драмы, тяжелой борьбы и… поражения, офицерство не знало и не интересовалось. Неосведомленность его была так велика, что многие даже теперь, спустя четыре года, приписывают Гучкову авторство знаменитого «приказа № 1»… Так или иначе, офицерство почувствовало себя обманутым и покинутым. Свое тяжкое положение оно приписывало, главным образом, реформам военного министра, к которому выросло враждебное чувство, подогреваемое еще более будированием сотен удаленных им генералов и ультрамонархической частью офицерства, не могшей простить Гучкову предполагаемого участия его в подготовке дворцового переворота, и поездки в Псков[206].