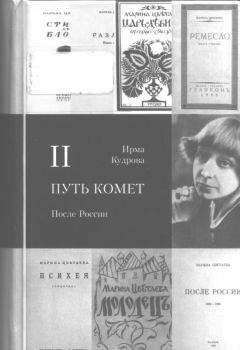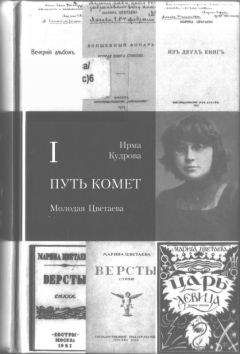Слишком многое переменилось и в них самих, и в мире. При этом то и другое оказалось связано между собой теснее, чем это можно было предположить.
Что решился Пастернак рассказать ей о себе и стране? Достоверно известно (Алексей Эйснер при этом присутствовал), что рассказал об аресте Мандельштама и о телефонном звонке Сталина ровно год назад, и о странном разговоре, который тогда между Пастернаком и вождем состоялся. Но рассказал ли о той поездке, когда своими глазами увидел уральскую деревню и изнанку процессов «сплошной коллективизации»?
Мы не знаем этого. Известно другое: Цветаева все же задала Борису Леонидовичу вопрос, который ее теперь мучил постоянно: можно ли сейчас возвращаться в Россию?
Ответ показался ей невнятным, противоречивым. Пастернак и сам это как будто подтверждает: «Я не знал, что ей посоветовать», — признался он позже в очерке «Люди и положения». Но ведь сказал же он ей во время заседания конгресса на ухо о том, как почти насильно отправили его в Париж: «Я не посмел не поехать, ко мне приехал секретарь Сталина, и я испугался. Меня посадили в самолет и привезли…» (Пастернак приехал поездом, не самолетом, но в данном случае я привожу цитату из письма Цветаевой к Анне Тесковой.)
Другой вариант предостережения передает Е. Н. Федотова, скорее всего, тоже со слов Цветаевой, обстоятельства совпадают: «Марина, не езжайте в Россию, там холодно, сплошной сквозняк!» Тоже шепотом, тоже во время заседания. Иносказательность фразы и конспиративность обстоятельств наводят на мысль, что даже в Париже Борис Леонидович опасался следящих глаз и подслушивающих ушей.
Гораздо больше, чем методам «делегирования» поэта на конгресс, Цветаева ужаснулась страху Бориса Леонидовича. Пастернак испугался! — вот что было для нее непонятно, непредставимо. Она не распознала мучительного состояния, в котором он находился в это время, о подлинных причинах его не догадалась, недомолвок расшифровать не сумела. Но потому и не сумела, что воображения не хватило представить, — даже у нее, ко многому как будто уже готовой! — как далеко все зашло в стране, куда так нетерпеливо рвался ее муж.
В эти дни она и сама далеко не в лучшей своей форме.
За неделю до начала работы конгресса она отвела к врачу сына: десятилетний Мур жаловался на боли в животе. Хирург диагностировал аппендицит. Мальчика срочно прооперировали, и он провел в больнице еще десять дней. Тем не менее Марина Ивановна присутствовала на всех заседаниях конгресса.
Но уже через день после окончания его работы, 28 июня, несмотря на то что советская делегация, а с ней и Пастернак, еще оставались в Париже, Цветаева уедет с сыном на юг, в Фавьер, к морю. Ни отменить, ни даже отложить отъезд она не могла. Дешевый «каникулярный» поезд уходил на юг именно 28-го — и билеты на него были куплены заранее.
Они могли, таким образом, видеться только в течение трех дней: 25, 26 и 27 июня.
Душевного состояния Пастернака Цветаева просто не поняла. «Признававшая только экспрессии, никаких депрессий Марина не понимала, — пишет в своих воспоминаниях Ариадна Эфрон, — болезнями (не в пример зубной боли) не считала, они ей казались просто дурными чертами характера, выпущенными на поверхность, — расхлябанностью, безволием, эгоизмом, — слабостями, на которые человек (мужчина!) не вправе…»
Роковым образом это совпало с тревожной напряженностью Марины Ивановны, обеспокоенной здоровьем сына.
В результате недоразумение накладывалось на недоразумение.
Однажды, оговорившись, Борис Леонидович назвал Цветаеву именем своей жены. Марина Ивановна расслышала — и расстроилась. И огорчилась еще больше, когда в возникшем за каким-то застольем споре Пастернак вдруг начал говорить нечто совсем уж невообразимое.
Что-то о необходимости подчинения личности коллективному сознанию. И что-то даже панегирическое о колхозах.
Спор был прилюдный — и в этом, наверное, скрывалась разгадка.
Но еще долгое время после этого Цветаева не могла прийти в себя.
Сохранившиеся черновики двух писем — Николаю Тихонову и Борису Пастернаку (Марина Ивановна напишет их уже в Фавьере) — позволяют хоть в какой-то степени представить, что же это был за спор.
Тихонову она писала, в частности: «От Б. — у меня смутное чувство. Он для меня труден тем, что все, что для меня — право, для него — его, Борисин, порок, болезнь.
Как мне — тогда (Вас, впрочем, не было, — тогда и слез не было бы) — на слезы: — Почему ты плачешь? — Я не плачу, это глаза плачут. — Если я сейчас не плачу, то потому, что решил всячески удерживаться от истерии и неврастении. (Я так удивилась — что тут же перестала плакать.) — Ты — полюбишь Колхозы!
…В ответ на слезы мне — “Колхозы”,
В ответ на чувства мне — “Челюскин"!
Словом, Борис в мужественной роли Базарова, а я — тех старичков — кладбищенских.
А плакала я потому, что Борис, лучший лирический поэт нашего времени, на моих глазах предавал Лирику, называя всего себя и все в себе — болезнью. (Пусть — “высокой”. Но он и этого не сказал. Не сказал также, что эта болезнь ему дороже здоровья и, вообще дороже, — реже и дороже радия…)».
В переводе на язык обыденный ясно, что за дружеским столом мир «старорежимный», «абстрактно-гуманистический» в лице Цветаевой отстаивал свои ценности в споре с ценностями «социалистического» мира. И Пастернак оказывался в роли хвалителя, а Цветаева — хулителя дня сегодняшнего; первый — защитником новых порядков, вторая — плакальщицей по старым.
(С Николаем Тихоновым познакомилась в эти дни и Ариадна. Они виделись не раз и не два в самой непринужденной обстановке: в зале конгресса и в отеле, где остановилась советская делегация. Пройдут годы — не столь долгие, лет пятнадцать! — и Аля из Туруханска, из своей бессрочной ссылки, напишет депутату Верховного Совета Тихонову просьбу о реабилитации. Прямого ответа от него она не получит. Тихонов просто перешлет письмо «по инстанции»…)
Кое-что конкретизирует набросок июльского письма Цветаевой Пастернаку.
«Я защищала право человека на уединение, — пишет Цветаева, — и не в комнате, для писательской работы, а — в мире. <…>
Вы мне — “массы”, я — “страждущие единицы”. Если массы вправе самоутверждаться — то почему я не вправе — единица? <…>
Я вправе, живя час и раз, не знать, что такое Колхозы, так же как Колхозы не знают — что такое — я. Равенство так равенство.
Мне интересно все, что было интересно Паскалю, и не интересно все, что было ему не интересно. Я не виновата, что я так правдива. Ничего не стоило бы на вопрос: “Вы интересуетесь будущим народа?” — ответить: “О, да”. А я ответила: “Нет”, потому что искренне не интересуюсь никаким и ничьим будущим, которое для меня пустое (и угрожающее!) место.