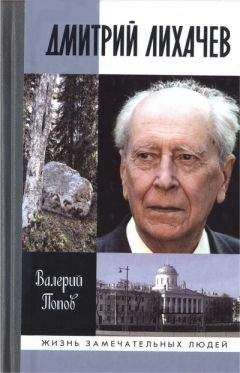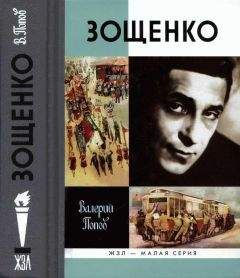Свою книгу «Поэзия садов» Дмитрий Сергеевич посвятил светлой памяти своей дочери Веры Дмитриевны, трагически погибшей 11 сентября 1981 года.
И тем не менее, при таком успехе, почете, регалиях, и главное — при таких заслугах перед Отечеством — сколько выпало на его долю гонений, унижений! Во все времена находились люди, которые норовили его в чем-то обвинить, упрекнуть, порой даже в расчетливом карьеризме. Между тем, кроме груды наград, которые он без особого пиетета держал в столе, никаких особых житейских благ он не обрел — да и не в его это было характере.
Его комаровская дача стоит в длинном сплошном строю дощатых двухэтажных строений в академическом кооперативе — и того размаха, комфорта, огромного соснового участка, как на сталинских дачах послевоенных академиков, тут даже близко нет.
Кроме того, стоит этот кооператив в «сыроватой» низинке — в отличие от других академических дворцов, стоящих на песчаных косогорах. Неподалеку дома Шостаковича, Алферова — те, правда, отдельные, отгороженные. Дача Лихачева примыкает одним боком к зарослям, что дает ощущение некоторой автономности. Перед домом — крохотный участок — одна сотка, ухоженная и засаженная с особой тщательностью. Лихачев, автор «Поэзии садов», не мог оставить этот участок без внимания.
На первом этаже столовая-гостиная. По рассказам внучки Зины, Дмитрий Сергеевич любил украшать стены произведениями импрессионистов, Модильяни — к сожалению, не подлинниками, а вырезками из «Огонька». Лестница вела на второй этаж, в кабинет. Несмотря на всю ее скромность, Лихачев свою дачу любил и даже гордился ее скромностью, часто назначал встречи здесь.
Покоя тут он так и не обрел. Величественная, размеренная жизнь академика, как у многих других, была не для него. Он не любил суеты перед начальством, всякого рода бессмысленных мероприятий — презентаций, банкетов. Но жизнь, которую он сам себе создал, спокойной не назовешь. И хотя часы его работы (а также отдыха) считались священными и детям даже на соседних участках запрещалось шуметь — волновали его отнюдь не дачные проблемы. Глобальные! И прежде всего — Россия, ее прошлое, настоящее и будущее. И он постоянно «попадал в историю», пытаясь поправить очередной «перекос» в общественном сознании — порой даже рискуя своей репутацией «великого и безупречного».
Были времена, когда о нашей стране нельзя было сказать ни одного плохого слова. Затем удивительным образом времена переменились: в 1960–1990-е уже не принято было среди «приличных людей» говорить о нашей стране хоть что-то хорошее, слово «патриот» стало почти ругательным. Власти, конечно, многое для этого «сделали», довели всех до глубокого разочарования и даже злобы. Ходила частушка: «Видишь — молот, рядом — серп. Это наш советский герб. Хочешь — жни, а хочешь — куй. Все равно получишь…!» Так что патриотизм был тогда непопулярен. Особенно негативное отношение к слову «Россия» утвердилось среди интеллигенции как творческой, так и технической. Отчасти это вытекало и из того, что никакой России мы в жизни и не видели, только СССР. Понятие патриотизма в 1980-е годы, годы напряженнейшей политической борьбы, «оседлали» коммунисты, которые заодно вдруг сделались христианами (как-то забыв, кто сбрасывал кресты). Поэтому присоединиться к патриотизму — значило присоединиться к их клану, крайне в те годы непопулярному. СССР доживал последние дни, и мало кто думал о такой опасности, что в одну могилу с СССР упадет и Россия. Об этом тревожился только мудрый, проницательный и отважный Лихачев.
И в 1981 году, когда в передовом обществе, мечтающем о переменах, были так сильны антипатии к СССР (и неотличимой от него в те годы России), в журнале «Новый мир» появляется статья Д. С. Лихачева «Заметки о русском». Это был буквально панегирик России и всему русскому… столь несовременный, с точки зрения «передовой общественности». Напасти и так терзали его со всех сторон. Именно в 1981 году погибает его любимая дочь Вера. И в этот же год он заявляет о столь непопулярном тогда русском патриотизме… Нет чтобы застыть ему в горе и величии. Как бы почитали его! А он — опять рискует собой, своим именем, ради цели, которую видит только он. Как говорил о себе Лихачев: «Я не типичный академик. Не хватает чванства». Скорее, в нем преобладали горячность и азарт, невозможность терпеть что-то возмущающее его. А возмущал его поток негатива в отношении России, ее истории — и история у нее самая поганая, и народ самый несчастный и аморальный, в котором якобы лишь два типа людей: «Те, кто сажали — и те, кто сидел». Помню, эта фраза повторялась всеми с каким-то горьким упоением. И вдруг — Лихачев возразил! Решиться на такое мог только он — в то время, когда, по словам Сергея Аверинцева, все общество резко разделилось на «демократов» и «патриотов», вдруг объявить себя патриотом! При этом демократы как бы теряли его навсегда — да и те, кто присвоили себе звание «главных патриотов», тоже не приняли его: «Не нашенский». Он «вызвал огонь на себя» — причем сразу с двух сторон, и не побоялся. И сделано это было открыто, даже демонстративно — статья появилась в популярнейшем «Новом мире», к которому были прикованы все взгляды!
Аверинцев в своем отклике на те события почтительно называет Лихачева «просвещенным патриотом». Но это вызывало лишь еще большее возмущение: как он-то мог, все знающий, все перестрадавший — вдруг «докатиться» до славословия? Что тут причиной? Стариковское упрямство? Или хуже того — уже «клинические» моменты? Или, того еще хуже — выслуживание перед начальством, желание и дальше получать знания и награды. Явилась возможность упрекать прежде безупречного Лихачева, — и многие не преминули этим воспользоваться: нет больше «безупречного» Лихачева, безупречны теперь они, говорящие людям горькую правду! В статье популярнейшего тогда публициста Л. Баткина лихачевский опус был объявлен «прекраснодушным» — хоть, слава богу, не «спекулятивным». Но Лихачев и не думал каяться, и переносил эту «кампанию» против него со спокойным достоинством, со знанием правоты. Хотя даже близкий его друг и союзник, всегда и во всем, Борис Федорович Егоров отозвался о лихачевском дискурсе так: «…есть очень ценные страницы. Мне, давно интересующемуся русским национальным характером, там многое близко и отзывно. Но ведь на статье лежит налет идеализации и благостности, он все покрывает розовым флером, русские оказываются только широкими и добрыми, об остальном — в скороговорку. Совершенно обойдены трагичность, грубость, юродство и проч. и проч.».
Без грубости и юродства тогда, конечно, было никак. Но об этом писалось весьма много, особенно в «самиздате» и «тамиздате», которые, надо отметить, имели гораздо больше влияния на наши умы, чем официальная пресса — и именно «компроматом» на нашу жизнь, прежде от нас скрываемым, мы, можно сказать, упивались. Так что описаниями трагичности, грубости, подлости и юродства нашей жизни мы в то время не были обделены. Именно для того, чтобы уравновесить наше тайное, горько-упоительное чтиво, восстановить гармоническое равновесие, и написал Лихачев ту статью — в другую крайность. Даже рискуя свои именем среди «широких слоев интеллигенции». На такое мог решиться только он. Когда он шел против «коммунистов» — все (мысленно) аплодировали ему. И вдруг Лихачев — «патриот»! Против «своих»? Один суровый «разоблачитель всего» назвал даже Лихачева «умеренным националистом». С такими «обвинителями» Лихачев даже не спорил.