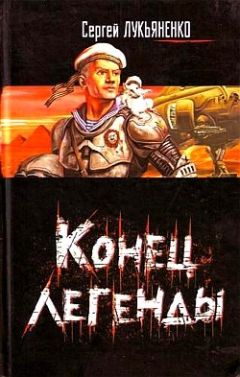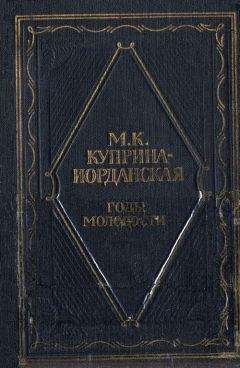Когда отец и мама наконец легли спать, для меня началась страшная бессонная ночь.
Я знала, что без меня родители мои не уедут, для них я оставалась ребенком, нуждавшимся в постоянном присмотре. Но в то время моя личная жизнь, работа, перспективы, друзья — все было связано с Францией.
Последние мрачные годы с родителями, тоска, грусть тяготили меня. С другой стороны, я чувствовала абсолютную необходимость для отца вернуться на родину, обрести счастье, пусть хотя бы на оставшиеся ему недолгие годы жизни. Я знала, что в Советском Союзе его продолжают читать и любить, и хотела надеяться, что родная земля даст ему силы поправиться. А если его годы уже были сочтены, то он не должен был умереть на чужбине — это было бы чудовищно. Куприн был слишком русским человеком, русским писателем. С возвращением на родину его жизнь как бы замыкалась в закономерный круг. Я чувствовала, что не имею права быть препятствием.
Билибин уехал. Искры надежды снова потухли. И вдруг пришло приглашение от посла Потемкина зайти для переговоров.
Для эмигрантов в ту пору советское посольство было окутано какой-то тайной, легендами. Некоторые шоферы такси, бывшие белые офицеры, боялись проезжать по улице Гренель, где находилось посольство, говорили, что, дескать, их могут похитить, говорили также, что французская полиция фотографирует каждого, кто входит в посольство, и потом этот человек уже на учете, за ним следят, он подвергается преследованиям, иногда и высылке.
Мои родители были очень взволнованы. Отец даже хуже стал себя чувствовать. Видя все это, я предложила предварительно пойти в посольство вместо них.
Потемкин, человек высокой культуры, принял меня очень тепло. Я объяснила ему состояние отца, его горячее желание вернуться домой, его физическую слабость, объяснила также, как необходима строжайшая тайна, чтобы оградить Куприна до его отъезда от выпадов эмигрантов.
Решили, что Потемкин в ближайшее время вечером пришлет посольскую машину и отца привезут к нему в гости, в неофициальную обстановку.
Через несколько дней — совсем как в детективном романе — посольская машина остановилась на соседней улице. Я проводила очень волновавшихся отца и мать, усадила их в машину. Вернулись они радостные и счастливые, обласканные и успокоенные.
Эти визиты несколько раз повторялись и происходили всегда в очень теплой обстановке.
Как-то раз, разговаривая в посольстве о своем отъезде из Парижа, отец вдруг замялся. Потемкин спросил: в чем дело? Александр Иванович решился задать мучивший его вопрос:
— Скажите, а кошечку можно взять с собой?
Присутствующие засмеялись. Потемкин сказал:
— Ну, конечно.
Было решено, что я вскоре последую за родителями.
Очень скоро разрешение вернуться на родину было получено, все визы были оформлены. Но оставалась самая трудная сторона: приготовления к отъезду, продажа библиотеки, ликвидация долгов, обязательств, усугубляемых трудностью сохранения тайны. В курсе отъезда была только вдова Саши Черного — Мария Ивановна.
Всем знакомым ликвидация библиотеки объяснялась желанием переселиться на юг Франции, где жизнь дешевле и климат благоприятнее для отца. Это не вызывало никаких комментариев, так как многие из писателей — Шмелев, Бунин — переселились на Лазурный берег.
Как всегда, все трудности, все сложности легли на маму. А нетерпение отца все возрастало. Ему казалось, что время тянется слишком долго, что он не доживет, говорил, что пойдет пешком по шпалам, если почему-либо в последний момент его не пустят домой.
Иногда его обуревала радость, он ходил по квартире и почти пел: «Еду-еду, еду-еду…»
Последние дни вспоминаются смутно; я была в каком-то тумане, старалась держаться, не расстраивать родителей.
Наконец наступил и самый последний день. Никто не провожал родителей, кроме Марии Ивановны Черной. Тяжелый багаж был уже отправлен.
Мы направились к Северному вокзалу. У отца на коленях была корзиночка с Ю-ю. На вокзал приехал представитель посольства и торжественно вручил моим родителям советские паспорта. Я впервые за долгие годы увидела на лице моего отца безмерно счастливую улыбку. Усаживаясь в вагон, он мне сказал: «Ты понимаешь, Куська, домой еду…» И даже зажмурил глаза.
У меня была только одна мысль: не плакать, не плакать, расставаясь с родителями. Для этого я напичкала себя первоуспокаивающими средствами. Я сжимала зубы, старалась улыбаться. Когда наконец мне пришлось выйти из поезда, отец, высунувшись из вагона, схватил мои руки и, целуя их, все время приговаривал: «Лапушки мои…» Так и продолжал он их держать уже на ходу поезда. Я вдруг почувствовала в тот момент, что больше его никогда не увижу.
Поезд удалялся, и я наконец смогла заплакать. Мария Ивановна Черная, недолюбливавшая меня (только теперь я понимаю, насколько она была права, обвиняя меня в эгоизме), взглянула своими светло-голубыми, немного навыкате глазами и жестко сказала, увидев мои слезы: «Наконец…» В этот момент я возненавидела ее. Больше я ее не встречала, но знаю, что она очень любила моих родителей, помогала им. Сейчас я могу только просить прощения у ее памяти — человека очень честного, прямого и умного. Умерла она в глубокой старости, чуть ли не девяноста лет, в жестокой бедности, на юге Франции.
Как в тумане, я вернулась домой.
Несколько дней все было тихо. Но вот появилось сообщение московского корреспондента французской газеты «Temps»:
«Москва. 1 июня. Известный русский писатель А. И. Куприн, с начала революции проживавший в эмиграции, возвратился в Москву. Советские власти не препятствовали приезду писателя.
Французская печать отметила возвращение Куприна на „родину“ без комментариев, но в сочувственных выражениях».
Примечательны кавычки в слове «родина».
«Последние новости» напечатали в тот же день:
«Вчера в течение дня по русскому Парижу распространилось невероятное известие:
„А. И. Куприн и Е. М. уехали из Франции… в Москву“.»
Ночью меня разбудил телефон.
«Вас вызывает Москва…»
В то время звонок из России был чем-то невероятным и мучительным. Мне велели повесить трубку и ждать. О сне не могло быть и речи. Через час вызвала Польша, сообщила, что меня вызывает Москва. Смешалась русская, французская, польская речь, Москва, Париж, Moskow, Paris, Moscou. Через несколько минут мне опять велели повесить трубку и ждать. Так продолжалось часа четыре-пять. Наконец под утро через треск и шум я едва услышала какие-то звуки. Я поняла, что это мама, и скорее угадала, чем поняла, нежные слова и тревожные вопросы.
Первым злобным визитом ко мне был визит докторши мадам Харитоновой. Перед отъездом мама послала ей подарок в благодарность за бескорыстный и внимательный уход доктора Харитонова за отцом. Это была старинная серебряная вазочка, наполненная конфетами. Мадам Харитонова швырнула мне вазочку, конфеты рассыпались, и она заявила, что не собирается принимать подарки от чекистов. Я ей ответила, что никакие злобные выпады не испортят теперь уже счастье и радость отца на родной земле. Она разразилась страшной руганью, и мне пришлось почти силой ее выставить.