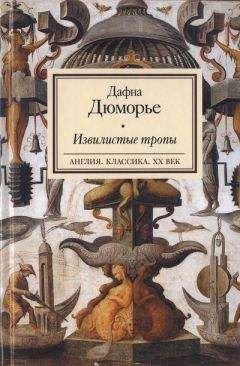Набрал я в голос погуще баса и говорю немцу: «Руки хох!». Сказал и жду, за гранату взялся. Ну, должен вам сказать, немец оказался вполне грамотный и ситуацию понял сразу, вижу, лезет ко мне, локтями упирается, а руки вверх подняты. Долез до меня, стал на четвереньках и стучит зубами от страха. Тут я моментально принимаю новое ответственное решение: обыскал его, оружие забрал, завязал ему руки и ноги проводом, а сам три раза провод дернул. Гляжу, наши потащили провод, аж снег за моим фрицем столбом встал.
Ну, спилил я эту самую нейтральную елочку, взвалил ее на спину и пополз к своему окопу. Пока полз, вспотел весь. Добрался до окопа и вижу: наши все окружили моего «языка», нашивки его проверяют, в личность смотрят.
Прислонил я елочку к стенке окопа, гордо поставил сбоку две винтовки и говорю сержанту Олефиренко довольно равнодушно: равняйся, говорю, на меня, мой «язык» и по чину старше, и морда у него толще, и взят похлеще, чем твой.
Елка у нас, конечно, была по всем правилам: фонарики горели, мы пели песни, хлопцы меня с медалью поздравляли, а я пил за нашу победу и за наше счастье в Новом году.
Капитан Чекалин сам не знал, почему он решил провести свой месячный отпуск в той самой станице, где он до войны работал зоотехником и где во время оккупации погибли его жена и трое детей. Он не был в этой станице уже несколько лет, из близких ему в ней никого не осталось и его там никто не ждал. Чекалин мог бы поехать в Ставрополь, к сестре, но когда штабной писарь спросил его, до какой станции ему выписывать требование на проезд по железной дороге и какой населенный пункт проставить в отпускном билете, Чекалин подумал, посмотрел в распахнутое окно, за которым голубели в саду мартовские лужи, и назвал станицу Алексеевскую и станцию, отстоящую от нее на двенадцать километров.
После нудной четырехсуточной тряски в битком набитом вагоне Чекалин сошел на разбитой степной станции, посидел возле черного от копоти, покосившегося элеватора и, не дожидаясь попутной машины, закинул на плечо вещевой мешок и зашагал по дороге в степь.
Даже теперь Чекалин не думал о том, к кому он придет и что, собственно, будет делать в этой станице, где его, конечно, успели давно забыть. Он неторопливо шел по дороге, курил, сбивал хворостиной бурые головки сухого дурнишника и вспоминал недолгие три года, прожитые в Алексеевской.
За поворотом дороги Чекалин увидел стоящую на краю вспаханного поля сеялку-семирядку. Запряженные в сеялку рыжие, взмокшие от работы кони стояли, понуро опустив головы. На земле, очищая щепкой сошники сеялки, лежал смуглый парень в полинялой солдатской пилотке. Заметив приближавшегося Чекалина, он поднялся и вытер руки о штаны.
— Здорово, казак! — издали крикнул Чекалин.
— Доброго здоровья! — сдержанно ответил парень.
Должно быть, внутренне оценивая незнакомого человека, парень скользнул осторожно нащупывающим взглядом по высокой, сутуловатой фигуре Чекалина, посмотрел на его впалые щеки, седые виски, задержал взгляд на погонах и вздохнул. Парню на вид можно было дать лет семнадцать, но Чекалин, глядя на его мальчишеские, облупившиеся на ветру щеки, подумал, что ему не больше пятнадцати.
— Стоишь? — дружелюбно спросил Чекалин.
— Тут хоть не хочешь, а будешь стоять с такой справой, — махнул рукой парень.
— А что?
— Да вот четвертый круг прохожу, а зерно из ящика почти что не убывает, сошники забиваются. Черт его знает, чего с ними делать. А один сошник вон совсем негоден, и семяпровод на шматки рвется.
— Сеялку не берегли зимой, вот и пропали сошники, — сурово сказал Чекалин.
— Она уже у нас годов пятнадцать в работе не была: тракторными сеяли, — виновато объяснил парень, — а после войны опять за конные взялись, потому что немцы тракторы побили и части в реку покидали.
Чекалин положил на землю вещевой мешок и снял шинель. Увидев на его кителе четыре ряда орденских колодок, парень одобрительно хмыкнул:
— Ого! Одиннадцать штук!
— Клещи и проволока у тебя есть? — спросил Чекалин.
— Клещи у бригадира — он к трактору пошел, а проволока есть.
— Давай проволоку.
Чекалин порылся в вещевом мешке, достал пустую противогазную сумку, отрезал от нее кусок брезента и довольно быстро починил перегнивший семяпровод. Потом он осмотрел сеялку, оглянулся и сердито крикнул стоящему за спиной парню:
— Ты! Герой! Ворон ловишь, а за нормой высева не следишь! Рычажок у тебя на циферблате передвинулся до отказа.
— Это бригадир устанавливал, я рычажка не трогал, — смущенно объяснил парень.
Осмотрев конскую упряжь и почистив сошники, Чекалин снял пояс, кинул его на мешок вместе с фуражкой, расстегнул ворот кителя и сказал парню:
— Ну-ка, смотай вожжи и веди коней. Попробуем!
Парень намотал вожжи на руку и взмахнул кнутом.
Чекалин пошел за сеялкой, прислушиваясь к легкому постукиванию сошников. Крышка высевающего ящика была открыта, и Чекалин видел, как, образуя семь одинаковых воронок, янтарно-золотистое зерно равномерно потекло через сошники в землю. Чекалин удовлетворенно захлопнул крышку.
Он шел по влажной земле, ощущая на сапогах ее тяжесть, жадно вдыхал соленый запах конского пота, покрикивал на лошадей и, не обращая внимания на удивленно оглядывающегося парня, хрипловато запел фронтовую песню.
— Как тебя зовут, казак? — крикнул он парню.
— Пашка! — спотыкаясь, откликнулся парень.
— Чей же ты будешь, Пашка?
— Овчаровых.
— Из Алексеевской?
— Из Алексеевской.
— А кто у вас председатель колхоза?
— Тимофей Иванович, Грачев фамилия.
— Какой Тимофей Иванович? Тимошка, что ли? Тех Грачевых, что напротив колодца жили?
— Ну да. Он потом комбайнером был, двумя орденами награжден.
Чекалин засмеялся. Он вспомнил семнадцатилетнего Тимошку Грачева, которого в тридцать восьмом году нещадно отодрал ремнем за то, что мальчишка, озоруя в ночном, потравил конями опытный участок. С тех пор прошло девять лет и много воды утекло. Какой же он стал, этот Тимошка?
На шестом заходе Чекалин осторожно спросил у Пашки:
— А ты Ольгу Чекалину знал?
— Это которая в детских яслях работала? — осведомился Пашка. — У нас в колхозе Ольгу Васильевну все знали. Немцы расстреляли ее на овцеферме. Тридцать шесть душ их загнали тогда на овцеферму и вместе с детьми постреляли. Их всех наши похоронили в братской могиле возле стансовета…
Чекалин больше ни о чем не расспрашивал Пашку. Он, опустив голову, шел за сеялкой, думал о жене, о детях (младшего сына он никогда не видел), вспоминал лицо Ольги, и ему казалось, что она вот-вот появится на дороге, придет сюда и принесет ему завтрак в холщовой, расшитой красными нитками сумке, как, бывало, давно приносила, когда он работал на ферме.