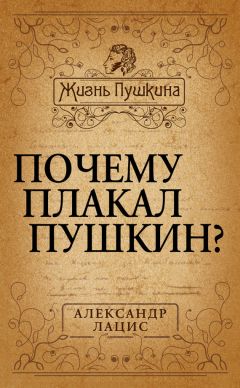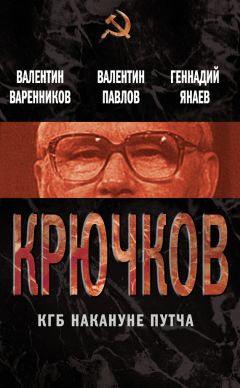Однако кое-что в итальянском комментарии и в его русском переводе озадачивает. Несколько поверхностны насмешки над пушкинистами, не знающими, дескать, французского языка. Нам сообщают также, что и Дантес (а он обучался в Сен-Сирской военной академии) невразумительно владел французской грамотой. А потому С. Витале сочла нужным оригиналы писем… подправить!
Попробую угадать одно из недоумений, смутивших итальянского профессора, а за ней и рецензента «Литературной газеты». Не надо было, уважаемый рецензент, не по делу ссылаться на Анну Ахматову. Не надо было, уважаемая госпожа Серена Витале, тщетно листать четыре тома Петербургского Некрополя. Ни к чему было разыскивать генеалогические списки аристократических дам. Да еще в «книге записей всех петербургских церквей».
Приходится встать на защиту якобы сменившего увлечение Дантеса. Выражение “La paure fenime” в данном случае рекомендую перевести «бедняжка».
Засим позвольте вас, действующие лица, представить друг другу. Слева – госпожа профессор и примкнувший к ней рецензент «Литературной газеты». Справа – бедняжка, с которой придется расстаться. Кобыла Дантеса. По кличке «Супруга». Примите, господа, наилучшие пожелания от гвардейской кобылы. Судите сами – насколько были уместны ваши догадки о том, что Дантес ее покинул ради другой дамы.
10 февраля 1997Уравнение с тремя неизвестными
Пушкин – поэт. А что означает для Пушкина – поэт?
В лицейском дневнике он сделал запись о том, что прочел «Жизнь Вольтера». В биографическом очерке, написанном Кондорсе, мог ли юноша-поэт оставить без внимания самое поучительное место?
Там говорилось примерно следующее: для того, чтоб стать большим поэтом, недостаточно быть просто поэтом. Надо обладать знанием истории, надо постигнуть философию на высшем уровне своего времени.
Вряд ли знакомо даже самым начитанным собирателям пушкинианы высказывание Кондорсе. А ведь по сути это наставление могло бы стать путеводной звездой для всех, кому дорого творчество Пушкина.
Да что там Кондорсе? Стараются обойтись без столь же основополагающего высказывания самого поэта:
«…По крайней мере я по совести исполнил долг историка: изыскивал истину с усердием и излагал ее без криводушия, не стараясь льстить ни Силе, ни модному образу мыслей». (Записано в декабре 1833 года, но не отослано Бенкендорфу, дабы не дразнить гусей).
Почему же это стержневое определение как бы в упор не видят? Не потому ли, в частности, что оно дает правильный угол зрения на роль и место Десятой главы?
Что же у нас есть взамен? Груда лишенных основания биографических легенд. Вереница упражнений на дежурную тему: какой Пушкин нам сейчас нужен?
Конечно же, Пушкин был сложнее и умнее юбилейно-конъюнктурных напраслин. Но гордый и независимый Пушкин, его приверженность к личной и к творческой свободе, политическое противостояние властям – до чего же это всё оказывалось некстати в любые годы двадцатого века.
Пожалуй, скоро останется лишь один писатель, наглухо закрытый россказнями о полнейшей его изученности, и тем самым недозволенный, недоступный для истинного постижения.
Случалось, что пушкинисты прошлого века в сердцах упрекали друг друга в «умышленном непрочтении». Подобных маленьких хитростей хватает и ныне. Боязнь попасть в расхождение с видами начальства вколочена насильственно, в буквальном смысле намертво.
Разумеется, не все уцелевшие пушкинисты спешили согрешить услужливостью, иначе говоря – криводушием. Если и ошибались, то по несравненно более достойной причине. Отягощенные обширными познаниями, они иной раз теряли из виду движение пушкинской мысли. Нечто подобное, видимо, произошло с одним из пушкинских текстов, который пребывает в числе неразгаданных, непонятых.
Поводом для противоположных толкований явился лист бумаги, на обеих сторонах которого Александр Пушкин, как полагают – осенью 1830 года, набросал стихотворные строки.
Стихи, написанные на лицевой стороне, и написанные на стороне оборотной печатали по отдельности, как два разных наброска.
Более полувека назад Б. Томашевский пробовал оба незавершенных отрывка воссоединить. Спор на тему «вместе или отдельно?» не кончен. И очень может быть, что, выбирая одно из двух решений, придется искать какое-то третье. Но сначала послушаем доводы Томашевского.
Оба отрывка есть отклик на заключенный 2 сентября 1829 года Адрианопольский мирный договор России с Турцией. Адрианополь по-турецки именуется «Эдырне». Внизу пушкинской рукописи так и начертано: «В Эдырне мир провозглашен».
В результате русско-турецкой войны Россия продвинула южные границы и, кроме того, добилась признания Греции независимым государством. Вот почему оба стихотворных отрывка – восемь строк про Россию, двенадцать про Грецию – составляют единое целое. Совместно прочтенные, они поясняют друг друга. А прочтенные по отдельности, замечает Томашевский, окажутся неверно поняты.
Например, строка «Восстань, о Греция, восстань» должна означать «подымись», «воспрянь». Она призывает не к «восстанию», а к «восстановлению». Так начиняется революционная песня, ставшая народным гимном, песня, сочиненная Константином Ригой, чье имя наряду с Байроном упоминается в одном из соседних четверостиший.
Томашевскому возражала Т. Цявловская:
«Однако разные темы и настроения этих стихотворений не позволяют согласиться с такой реконструкцией».
Томашевскому возражал Н. Измайлов: «Но такое объединение, как и композиция стихотворения… представляется очень спорным. Для нас же важно то, что попытка Пушкина писать о минувшей войне в хвалебном, одическом тоне была отброшена в самом начале работы над черновиком».
Это что ж получается? Не хотел ли Измайлов сказать, что Пушкин, стараясь учесть указания Булгарина, задумал отписаться в казенном духе?
Тогда, в 1830 году, Фаддей Булгарин печатно доносил, что Пушкин не поспешает воспеть успехи русского оружия.
«Мы думали, что великие события на Востоке… возбудят гений наших Поэтов – и мы ошиблись! Лиры знаменитые остались безмолвными, и в пустыне нашей Поэзии появился опять Онегин, бледный, слабый…»
Булгаринские предписания поэт не забыл. Он ответил четыре года спустя в наброске предисловия к «Путешествию в Арзрум». Но, конечно же, не появились в печати горькие строки:
«…Неужели непременно был обязан писать именно то, что прикажут журналисты? Что за нещастные люди русские писатели?»