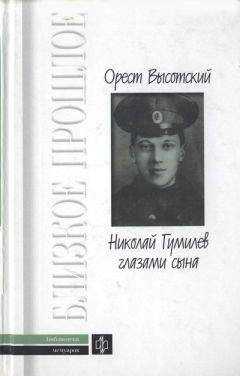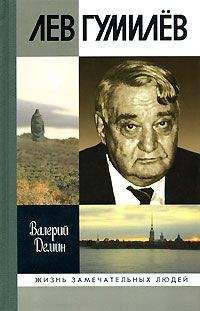Порой заседания «Всемирной литературы» под председательством Горького превращались в разговоры или дружелюбную полемику о литературных течениях. Горький на заседания приезжал чисто выбритый, угрюмый, подчеркнуто величественный: «Я позволю себе сказать…», «Я позволю себе предложить…» Обсуждался вопрос о Гюго: сколько томов издавать? Горький требовал — поменьше: «Я позволю себе предложить изъять „Несчастных“… да, изъять, не надо „Несчастных“, теперь, когда за катушку ниток… вот такую, маленькую, в Самарской губернии дают два пуда муки… Не люблю Гюго».
— Ну, а «Тружеников моря»? — спросил Чуковский.
— Не люблю…
— Но ведь там проповедь энергии, человеческой победы над стихиями, это мажорная вещь…
— Ну, если так, то хорошо. Вот вы и напишете предисловие. Если кто напишет предисловие — отлично будет.
Но Горький не всегда был таким доброжелательным. Известно, как его взорвали попытки комиссара изобразительного искусства Н. Н. Пунина закрыть Дом Искусств, другое горьковское детище. «Горький, — свидетельствует один из очевидцев, — с черной широкополой шляпой в руках очень свысока, властным и свободным голосом говорил:
— Не то, государи мои, вы говорите. Вы, как всякая власть, стремитесь к концентрации, к централизму — мы знаем, к чему привело централизацию самодержавие. Вы говорите, что у нас в Доме Искусств буржуи, а я вам скажу, что это все ваши же комиссары и жены комиссаров. И зачем им не наряжаться? Пусть люди хорошо одеваются — тогда у них вшей не будет. Все должны хорошо одеваться. Пусть и картины покупают на аукционах. Пусть! Человек повесит картину — и жизнь его изменится. Он работать станет, чтоб другую купить. А на нападки, раздававшиеся здесь, я отвечать не буду, они сделаны из-за личной обиды: человек, который их высказывает, баллотировался в Дом Искусств и был забаллотирован… — Пунин (а это его забаллотировали) нервно то запирал ключиком портфель, то отпирал, то запирал, то отпирал, лицо у него дергалось от нервного тика. Выступая, он сказал, что гордится тем, что его забаллотировали в Дом Искусств, ибо это показывает, что буржуазные отбросы его ненавидят. Вдруг Горький встал <…> очень строгий, стал надевать перчатку и, стоя среди комнаты, сказал:
— Вот он говорит, что его ненавидят в Доме Искусств. Не знаю. Но я его ненавижу, ненавижу таких людей, как он, и… в их коммунизм не верю. — Подождал и вышел».
Заседания, лекции, литературные споры и обсуждения заполняли жизнь Николая Степановича; никогда прежде он не жил такой напряженной, пусть голодной и неустроенной жизнью. Вместе с Лозинским они решили возродить издательство «Гиперборей». Прежние издательства были закрыты, в типографиях бумаги осталось только для декретов и партийных газет, а у Гумилева накопилось много стихов и рассказов, хотелось видеть их изданными. И ему удалось договориться с полиграфистами о печатании в кредит с расплатой после продажи выпущенных книг.
Первой 28 июня появилась из печати тоненькая книжка в бумажной обложке — африканская поэма «Мик». А в июле одна за другой вышли «Фарфоровый павильон» и «Костер». Затем повторным изданием вышли «Жемчуга» и «Романтические цветы».
«Костер» — это книга вполне зрелого мастера, окончательно избавившегося от влияния Брюсова. В сборник вошло десять стихотворений, рисующих Россию, ее историю и пейзажи: «Андрей Рублев», «Городок», «Змей»; в других стихотворениях поэт опять возвращается к теме перевоплощения душ, к единству человека и природы:
…Я за то и люблю затеи
Грозовых военных забав,
Что людская кровь не святее
Изумрудного сока трав.
Впервые в сборнике «Костер» Гумилев обращается к общественной теме в стихотворении «Мужик». О нем емко сказала Марина Цветаева: «Есть у Гумилева стих — „Мужик“ … с таким четверостишием:
В гордую нашу столицу
Входит он — Боже спаси! —
Обворожает царицу
Необозримой Руси.
Вот в двух словах, четырех строчках, все о Распутине, Царице, всей той туче. Что в этом четверостишии? Любовь? Нет. Ненависть? Нет. Суд? Нет. Оправдание? Нет. Судьба. Шаг судьбы.
Вчитайтесь, вчитайтесь внимательно. Здесь каждое слово на вес — крови.
В гордую нашу столицу (две славных, одна гордая: не Петербург встать не может) входит он (пешая и лешая судьба России!) — Боже спаси! — (знает: не спасет!) обворожает царицу (не обвораживает, а именно по-деревенски: обворожает!) необозримой Руси — не знаю как других, а меня это „необозримой“ (со всеми звенящими в ней зорями) пронзает — ножом <…>.
Объяснять стихи? Растворять (убивать) формулу, мнить у своего простого слова силу большую, чем у певчего — сильней которого силы нет, описывать — песню! <…>. Что поэт хотел сказать этими стихами? Да именно то, что сказал.
Дорогой Гумилев, есть тот свет или нет, услышьте мою, от лица всей поэзии, благодарность за двойной урок: поэтам — как писать стихи, историкам — как писать историю.
Чувство Истории — только чувство Судьбы…»
Но в то время, когда вышел «Костер», на сборник не обратили внимания. Было не до стихов. В стране разгоралась гражданская война, все ужаснее становился голод, все чаще шепотом передавали о казнях. О том, что в Екатеринбурге большевики расстреляли государя и всю его семью.
Гумилев считал, что это преступление, которое совершили не только большевики, а весь народ, и что народ страшно расплатится за него. Народ подчинился диктатуре, а в России — либо царь, либо — диктатор, злая личность, несущая гибель нации.
6 февраля 1919 года в «Петроградской правде» появилось объявление: «Сегодня в 6 часов вечера состоится открытие Коммунального детского театра-студии. Театр помещается на проспекте Володарского, 51. Открывается театр сказкой в 3-х действиях „Дерево превращений“ Н. С. Гумилева». Эта веселая восточная сказка, написанная прозой, пользовалась в голодном Петербурге успехом не только у детей, но и у взрослых.
Часто Гумилев выступал с докладами о литературе, в Институте живого слова вел курс теории и истории поэзии, руководил молодыми поэтами в кружке «Орион», читал с эстрады в студии Пролеткульта и Балтфлота, не заботясь, нравятся ли его стихи не привыкшим к поэзии рабочим и матросам. Стихи и в самом деле порой вызывали недоумение или подозрение. Он читал матросам стихотворение «Галла»:
Я склонился, он мне улыбнулся в ответ,
По плечу меня с лаской ударя,
Я бельгийский ему подарил пистолет
И портрет моего Государя, —
в зале послышалось глухое ворчание, а сидевший в первом ряду матрос даже схватился за маузер. Почти такую же реакцию у слушателей вызвало стихотворение «Воин Агамемнона», где были слова: