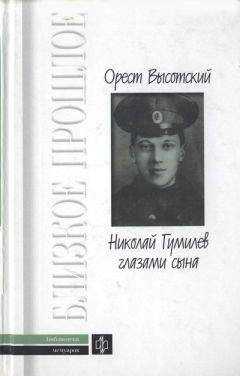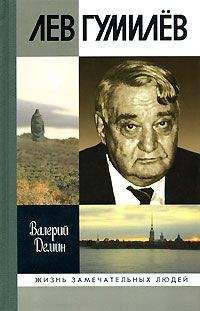в зале послышалось глухое ворчание, а сидевший в первом ряду матрос даже схватился за маузер. Почти такую же реакцию у слушателей вызвало стихотворение «Воин Агамемнона», где были слова:
Тягостен, тягостен этот позор —
Жить, потерявши царя!
Зато на вечере в Доме Искусств среди интеллигентов стихи имели успех. Корней Чуковский пишет, что «во время перерыва меня подзывает пролеткультовский поэт Арский и говорит, окруженный другими пролеткультовцами:
— Вы заметили?
— Что?
— Ну, не притворяйтесь… Вы сами понимаете, почему Гумилеву аплодируют.
— Потому что стихи очень хорошие. Напишите вы такие стихи, и вам будут аплодировать.
— Не притворяйтесь, Корней Иванович. Аплодируют, потому что там говорится о птице…
— О какой птице?
— О белой… Вот! Белая птица. Все и рады… Здесь намек на Деникина.
У меня, пишет Чуковский, закружилась голова от такой идиотской глупости». Но именно подобные суждения формировали образ Гумилева в глазах правящих верхов.
Той же весной Гумилевы переехали на новую квартиру на Преображенской улице, а 14 апреля 1919 года у Анны Николаевны Энгельгардт и Николая Степановича родилась девочка, которую окрестили Еленой. Было ли это имя дано в память о парижской Синей звезде или оно просто нравилось Гумилеву, но молодая мать не возражала. Рождение дочери не отразилось на поступках Николая Степановича, прибавилось только забот о пропитании, нужно было еще больше денег, которые стремительно падали, и полученный за статью гонорар в 30 тысяч едва хватал на неделю.
4 июля в Институте искусств Гумилев читал лекцию о поэме «Двенадцать». Пришел Блок, надеясь, что можно будет спрятаться за спинами слушателей. Оказалось, что народу мало. Говоря о последних строфах, Гумилев пришел к выводу, что Христос в конце поэмы «приклеен искусственно». Блок слушал, как каменный. Когда лекция кончилась, он сказал очень значительно, с паузами:
— Мне тоже не нравится конец «Двенадцати». Но он цельный, не приклеенный. Он с поэмой одно целое. Помню, когда я кончил, я задумался: почему же Христос? И тогда же записал у себя: «К сожалению, именно Христос».
В ноябре Николай Степанович поехал с Кузминым в Москву. Их выступление в Политехническом институте московские коллеги встретили холодно, даже недоброжелательно. Вечером Гумилев зашел к Шилейко и Ахматовой на Зачатьевский переулок, где они жили с августа прошлого года. Гостя встретили приветливо. Анна Андреевна расспрашивала о петербургских знакомых — Блоке, Сологубе, Пясте, Мандельштаме. Шилейко поинтересовался, как движется перевод «Гильгамеша», ведь Николай Степанович ни разу не обратился к нему за помощью. Когда Гумилев сказал, что работает над сборником стихов об Африке «Шатер», и прочел два стихотворения, Анна Андреевна съязвила: «Это что же, в помощь школьникам, изучающим географию?»
В Петербурге началась зима, в квартире стоял лютый холод, Аня сидела с ребенком на кровати, укутанная кофтами и одеялами. Дров не было ни полена, и Николай Степанович, вооружившись топором, снял с петель дверь, разрубил и сжег вместе с ручками и задвижкой. Но этого топлива едва хватило до утра. На счастье, при содействии Чуковского Гумилев получил дрова от заведующего хозяйством Главархива и написал Корнею Ивановичу: «Дрова получил, сажень, дивные. Вечная моя благодарность Вам. Вечно Ваш Н. Г.».
Предстояло выполнить еще одно важное дело. В реквизированном доме Гумилевых в Царском Селе осталась его библиотека. Николаю Степановичу хотелось получить свои книги. На помощь пришел Оцуп: он съездил в Царское и, узнав, что все книги в больших ящиках вынесены в дровяной сарай во дворе дома, где и лежат уже два года, позвал двух студистов из Института живого слова. Ночью сбили замок с дверей сарая и на салазках вывезли ящики в дом матери Оцупа. Через два месяца книги уже стояли в книжном шкапу на Преображенской.
Если с дровами на некоторое время все уладилось, то с продуктами становилось все хуже и хуже. В столовой для писателей на обед давали тарелку жидкого пшенного супа, ложку пшенной каши на воде и пайку хлеба, по виду и вкусу похожего на кусок торфа. В буфете если и можно было купить пирожок с кислой капустой, то надо было отдать чуть не весь гонорар, полученный за поэму.
Каждый день Гумилев отправлялся на «охоту»: добыть для девочки хоть немного молока, раздобыть полфунта пшена или десяток картофелин, найти какое-нибудь советское учреждение, готовое послушать лекцию о творчестве Лермонтова или Леконта де Лиля, согласиться на проведение занятий по теории стихосложения — за это платили несколько тысяч рублей и кормили супом с куском пшенного хлеба.
Корней Чуковский вспоминал, как
«к годовщине Октябрьских дней военные курсанты, наши слушатели, получили откуда-то много муки. Каждому из нас, „лекторов“, они выдали не менее полпуда. Весело было нам в этот предпраздничный день везти через весь город на своих легких салазках такой неожиданный клад. Мы бодро шагали рядом и вскоре где-то близ Марсового поля завели разговор о ненавистных Гумилеву символистах.
В пылу разговора мы так и не заметили, что везем за собой пустые салазки, так как какой-то ловкач, воспользовавшись внезапно разыгравшейся вьюгой, срезал наши крепко прикрученные к салазкам мешки. Я был в отчаянии: что скажу я дома голодной семье, обреченной надолго остаться без хлеба?
Но Гумилев, не тратя ни секунды на вздохи и жалобы, сорвался с места и с каким-то воинственным криком ринулся преследовать вора — очень молодо, напористо, с такой неоглядной стремительностью, с таким, я бы сказал, боевым упоением, словно только и ждал той минуты, когда ему посчастливится мчаться по снежному полю, чтобы отнять свое добро у врага. Кругом было темно — из-за вьюги. Сквозь тусклую и зыбкую муть этого мокрого снежного шквала люди — даже те, что брели по ближайшей тропе, — казались пятнами без ясных очертаний. Гумилев мгновенно стал таким же пятном и исчез. Я ждал его в тоске и тревоге.
Вернулся он очень нескоро и, конечно, ни с чем, но глаза его сияли торжеством. Оказывается, в этой мгле он налетел на какого-то мирного прохожего, который нес свой собственный мешок на спине, и, приняв его за нашего вора, стал отнимать у него этот мешок. Прохожий со своей стороны принял его за грабителя: громко закричал „караул“, и у них произошла потасовка, которая, хоть и кончилась победой прохожего, доставила поэту какую-то мальчишескую — мне непонятную — радость. Он возвратился ко мне триумфатором и, взяв за веревочку пустые салазки, тотчас же возобновил свою обвинительную речь против символизма, против творчества Блока, которую всегда начинал одной и той же канонической фразой:
— Конечно, Александр Александрович гениальный поэт, но вся система его германских абстракций и символов…
И больше о нашей катастрофе — ни слова.
Весь этот боевой эпизод, происшедший на Марсовом поле, — погоня за мнимым грабителем и отчаянное сражение с ним (хотя тот и оказался гораздо сильнее) — все это раскрыло передо мною самую суть Гумилева. То был воитель по природе, человек необыкновенной активности и почти безумного бесстрашия».
В поисках средств к существованию Гумилев оставался прежде всего поэтом; он усердно работал над переводами и своими новыми произведениями. Казалось, тяжелое материальное положение не только не угнетало его, а вселяло дополнительную энергию. Революционные годы были самыми плодотворными во всей его поэтической жизни. Он чувствовал прилив творческих сил. Это был не прежний юношеский азарт, но глубокое, философское понимание мира, нашедшее выход в стихах о природе, мироздании, судьбе человека.