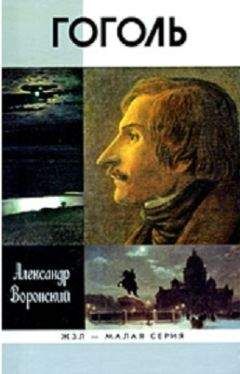«Авторская исповедь» является подведением итогов всего пережитого Гоголем, как писателем. Написана она простым и сдержанным языком. Гоголь вполне владеет собой. «Исповедь» продуманна, проникновенна и свидетельствует, что Николай Васильевич был не только замечательным поэтом, но подчас, правда, далеко не всегда, и замечательным мыслителем, что он владел не только языком образом, но и языком понятий…
…В конце января 1848 года Гоголь, наконец, совершил путешествие в Палестину. Перед отъездом он признавался Матвею Константинопольскому: «Исписал бы вам страницы во свидетельство моего малодушия, суеверия, боязни. Мне кажется даже, что во мне и веры нет вовсе». (IV, 154.) Гоголь предполагал отправиться в Палестину позже, чтобы быть там к Пасхе, но поспешил отъездом оттого, что в Неаполе стало неспокойно:
«Меня выгнали… разные политические смуты и бестолковщина». (14, 165.) Бурный 1848 год сильно напугал Гоголя. Боялся также Гоголь моря, мытарств, неожиданностей. Уезжая, разослал знакомым и родным листок с особой, им сочиненной молитвой, чтобы бог «укротил „бурное дыхание ветров“, удалил „духа колебаний, духа помыслов мятежных и волнуемых, духа суеверий“» и т. д.
Путешествие по началу было неблагоприятным. В Мальту Гоголь прибыл, по его словам, «впрах расклеившийся». «Все еще не могу оправиться и очнуться от морской езды. Рвало меня таким образом, что все до едина возымели ко мне жалость, сознаваясь, что не видывали, чтобы кто так страдал… Молитесь обо мне: невыносимо тяжело!» (А. П. Толстому, IV, 163.)
Он жалуется, что все приятели его позабыли и он четыре месяца не имеет от них ни строки.
Дальше путешествие как будто несколько наладилось. Сирийскую пустыню Гоголь переехал с Базили, своим школьным товарищем, занимавшем крупный служебный пост на востоке; он изводил Базили капризами и жалобами на неудобства.
Убогой и сырой предстала пред ним земля обетованная, земля отцов Авраама, Исаака, Иакова, земля млека и меда. Песок, камни, зной, томительно однообразные горы, запыленная, чахлая растительность, бедные лачуги, более похожие на звериные норы, чем на людские жилища, нищета, грязь, нечистоты, жалкие развалины. Мертвое море. «Где-то в Самарии сорвал цветок, где-то в Гилилее другой: в Назарете, застигнутый дождем, просидел два дня» (IV, 301.) Здесь ли сияла звезда Вифлеема и волхвы приносили злато, ливан и смирну чудесному младенцу? Да и был ли этот чудесный младенец? Не создан ли он человеческим вымыслом? Разнообразны создания человеческой мечты, но ведь она — обман, она слишком далека от действительности. Никто из современников не знал эту горькую истину так глубоко, как знал ее наш больной путешественник.
…В середине февраля Гоголь добрался до Иерусалима. Но не было отрады у гроба Христа страждущему художнику.
«Чувствую бессилие моей молитвы», — с горечью признается он матери. (IV, 170.) «У гроба господня я помянул ваше имя; молился как мог моим сердцем, не умеющим молиться». (О. Матвею, IV, 171.)
«Я не помню, молился ли я. Мне кажется, я только радовался тому, что поместился на месте, так удобно для моления и так располагающем молиться; молиться же собственно я не успел». (Жуковскому, IV, 177.)
Это звучит почти комически.
«Мои же молитвы даже не в силах были вырваться из груди моей, не только вылететь». (Толстому, IV, 178.)
«Скажу Вам, что еще никогда не был я так мало доволен состоянием сердца своего как в Иерусалиме и после Иерусалима. Только разве, что больше увидел черствость свою и свое самолюбие, — вот весь результат». (О. Матвею, из Одесы, IV, 187.)
Излияния высшей благодати и творческого озарения, которые могли бы «подвигнуть» вперед «Мертвые души», не произошло. Полное крушение поездки в Палестину должно быть показать Гоголю, что истинное его «душевное дело» — человеческое, земное, что излечить его очерствелость могут не посты и молитвы, а приток свежих и живительных впечатлений, окружение общественно здоровых людей, что ему немедленно надо порвать с о. Матвеем, с А. Толстым, со святошами и иезуитами.
Этот вывод Гоголь не способен был сделать. Он сделал совсем другой вывод: во всем надо искать искусителя-дьявола и личную испорченность.
Пробыл Гоголь в Палестине недолго и уже в конце апреля добрался до Одессы, а в мае — к себе в Васильевку.
Что-то еще надломилось в нем после неудачной поездки. Письма к друзьям и родным делаются суше, короче; меньше прибегает он теперь и к поучениям, больше сокрушаясь о своих собственных недостатках. Усиливается мнительность. Гоголь часто теряется, не зная, что от бога и что от дьявола. Мысль о «Мертвых душах» не покидает его, но, может быть, и они являются созданием злого духа?
И родная Васильевка не принесла успокоения. «Было несколько грустно, вот и все». «Только три или четыре дни по приезде моем на родину, я чувствовал себя хорошо; потом беспрерывные расстройства в желудке, в нервах и в голове от этой адской духоты, томительнее которой нет под тропиками. Все переболело и болеет вокруг нас. Холеры и все роды поносов не дают перевести дух. Тоска: даже читать самого легкого чтения не в силах». (С. Т. Аксакову, IV, 209.)
Крестьяне, крестьянки жалуются на бедность, на непосильный труд, на барщину. Гоголь утешает их: за то их ожидает блаженная жизни в небесной церкви. На короткое время он выезжает в Киев к А. С. Данилевскому. И Киев не радует его. Профессора, преподаватели, «деятели» представлялись знаменитому писателю, выстроившись, во фраках и вице-мундирах, точно перед высоким начальством. Гоголь обходил ряд, двигаясь, точно разбитый параличом; кивал головой, произносил деревянным голосом: — очень приятно. Потом все долго молчали. Заметив некоего Михальского, у которого был жилет в крапинках, похожий на шкуру лягушки, Гоголь сказал: «Мне кажется, как будто я вас где-то встречал… Я видел вас в трактире и вы ели луковый суп…».
В Васильевке Гоголь провел все лето; несмотря на сильную жару и свое тяжелое состояние он продолжал работать над вторым томом «Мертвых душ». Кулиш, посетивший родину Николая Васильевича после его смерти, со слов его родных рассказывает:
«Мне указали место, в углу дивана, где обыкновенно он сиживал, гостя на родине. В последнее пребывание его дома, веселость уж оставила его; видно было, что он не был удовлетворен жизнью, хоть и стремился с нею примириться… Он впадал в очевидное уныние и выражал свои мысли только короткими восклицанием: „И все вздор, и все пустяки“».
Писательская работа являлась для него подвигом.
«Подобно религиозным художникам старинной испанской школы, писавшим на коленях, в рубище и со слезами на глазах, мученников за веру Христа, он каждую страницу вымаливал у неба долгими молитвами и долгими покаяниями…