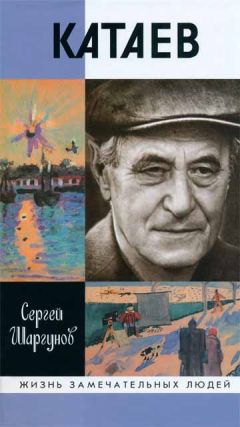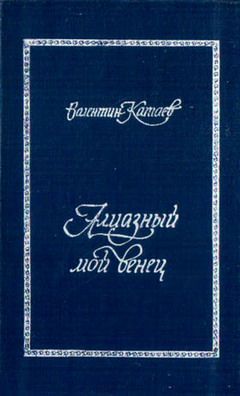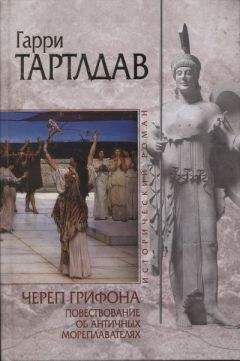Итак, столкнувшись с Бендером (героем, определившим бешеную популярность и неумолимую притягательность романа), Катаев понял: это оригинальное чужое произведение, на которое он не имеет прав. «Остап Бендер был задуман как второстепенная фигура, — замечал Петров, — почти что эпизодическое лицо… Но Бендер стал постепенно выпирать из приготовленных для него рамок. Скоро мы уже не могли с ним сладить. К концу романа мы обращались с ним как с живым человеком и часто сердились на него за нахальство, с которым он пролезал почти в каждую главу». На мой взгляд, Бендер — образ собирательный, герой времени. Немало его прототипов встречались Ильфу и Петрову, особенно в Одессе. Немало артистичных и энергичных аферистов сновало в текстах самого Катаева — начиная с Сашки в подростковом рассказе «Темная личность», через фельетонного Ниагарова, к Кашкадамову с «механической клешней» в «Растратчиках». (Кашкадамов: «Одно из двух — берете три комплекта изданий Цекомпома или не берете? Короче. Мне некогда, товарищ. У меня в четверг, товарищ, доклад в Москве, в Малом Совнаркоме». Бендер: «Жена? Бриллиантовая вдовушка? Последний вопрос. Внезапный отъезд по вызову из центра. Небольшой доклад в Малом Совнаркоме».) Элегантный пройдоха Аметистов обводил всех вокруг пальца в булгаковской «Зойкиной квартире», не переставая мечтать о Лазурном Береге. Но совсем другое дело — сделать ловкого и обаятельного циника ключевой фигурой целого романа, так чтобы читатель, затаив дыхание, следил за его приключениями.
Катаев в «Алмазном венце» утверждал, что прототип Остапа — Осип (Остап) Беньяминович Шор, уже упоминавшийся здесь одесский авантюрист, а затем инспектор уголовного розыска, брат безвременно погибшего поэта Анатолия Фиолетова («имя Остап сохранено как весьма редкое»), чью внешность романисты передали почти полностью: «атлетическое сложение и романтический, чисто черноморский характер». Согласно изысканиям нескольких украинских журналистов, Осип в 1918–1919 годах, возвращаясь из Петрограда в Одессу, дабы не пропасть, проворачивал разные комбинации: представился художником и устроился на агитационный волжский пароход; слабо умея играть в шахматы, назвался гроссмейстером; выдал себя за агента подпольной антисоветской организации. Кроме того, он провел всю зиму у пухленькой женщины, обнадеживая ее скорой женитьбой. Будто бы Шор увлекательно рассказывал своим одесским знакомым об этих и других авантюрных приключениях. В 1937 году Шор загремел на пять лет в лагерь, а под конец жизни работал проводником поездов дальнего следования. Умер он в 1978 году.
Однако есть мнение, что прототипом Бендера был сам Катаев.
Об этом писал грузинский литературовед А. Пчхеидзе: «Когда Бендер появился на первой же странице “Двенадцати стульев”, он уже был похож на свой прототип — на талантливого, остроумного и склонного к авантюре Валентина Катаева» и добавлял, что пародийное изображение мэтра было местью за его отъезд. Об этом пишет Давид Фельдман: «Остап Бендер походил на многих, прежде всего — на Валентина Петровича Катаева. Это действительно портрет Катаева, как подтверждают многие современники, Катаев примерно так выглядел, примерно так шутил. Кстати, на портрете в первом книжном издании портрет Остапа Бендера — портрет Валентина Катаева». Об этом же — подробная «новомирская» статья «Одинокий парус Остапа Бендера» критика Сергея Белякова: «Почему бы не предположить, что общение с Катаевым помогло деликатным и интеллигентным Ильфу и Петрову создать образ энергичного и напористого Остапа Бендера? Мне это представляется совершенно очевидным». Обоснований немало: «Бендер был эпикурейцем, как и Катаев», оба были «великими комбинаторами», получали удовольствие от управления другими (для этого и нужен пугливый Воробьянинов), да и герой автобиографического рассказа «Медь, которая торжествовала» «вскрывает» своего издателя на 20 рублей с напористостью Остапа Ибрагимовича, вдобавок «турецко-подданный» рифмуется с «красной турецкой феской», которую нахлобучил Катаев, авантюрно освобождая Симу Суок из плена одесского бухгалтера.
Такое мнение кажется занятным, но все же натянутым. Одно — вульгарный романтизм наживы, обмана, свойственный безвкусно-пошловатому и грубо-напористому «идейному борцу за денежные знаки», другое — тонкий, лиричный Валентин, испытывавший острые чувства (чувство влюбленности, чувство трагичности), воспринимавший «роскошь», пускай и вырванную железной волей, как вариант поэзии и награду за свой писательский труд. Остап далек от художественного творчества, без которого Катаев терял свою суть, ведь и все его предприятия, даже самые дерзкие, были именно в области сочинительства. Но что-то из катаевских персонажей и его «житейского образа» несомненно досталось и Остапу. Также в роман вошли поведанные Катаевым хохмы или происшествия. Надежда Мандельштам, вспоминавшая о «фольклоре Мыльникова», уточняла: «…многие из этих шуток мы прочли потом в “Двенадцати стульях” — Валентин подарил их младшему брату». Хотя понятно, что и в Мыльниковом, и в «Гудке» происходило своего рода обобществление юмора.
Как сказала мне Людмила Коваленко, прототипом Эллочки-людоедки была ее тетя — Тамара Сергеевна, тоже работавшая ретушером, как и катаевская жена, а прототип Фимы Собак — подруга Тамары Раиса Аркадьевна Сокол, впоследствии прошедшая всю войну медсестрой… Обе обожали вещи и разговоры о них.
Петров рассказывал, что для образа Воробьянинова пригодились черты его и, соответственно, Катаева двоюродного дяди — председателя уездной управы.
Сам Катаев так судил о присутствии прототипов в романе: «Замечу лишь, что все без исключения его персонажи написаны с натуры, со знакомых и друзей, а один даже с меня самого». Я уже упоминал инженера Брунса с «голосом шаловливого карапуза» (в нем, в отличие от Бендера, Катаев признавал себя) и его сурово-хозяйственную жену Мусика.
Ильф и Петров не ограничились прожорливым персонажем с наливными губами, как бы растворенным в природе («дольче фар ньенте», то есть с итальянского «сладкой негой» назвал свое пребывание на Зеленом Мысе Катаев): «Тропическая флора ластилась к инженеру… розы, обвивающие веранду, падали к его сандалиям». Намеки и пародии на мэтра разбросаны по всей книге. В ранней редакции романа «модный писатель Агафон Шахов» приезжал на извозчике в «Дом народов» (то есть Дворец труда, где располагался «Гудок» — в романе «Станок»): «Писать и печататься он начал с пятнадцати лет, но только в позапрошлом году к нему пришла большая слава». Этот Шахов направлялся за гонораром прямиком к кассиру, с которого списал «растратчика» в своем свежем произведении «Бег волны», и спрашивал у коллег: «А что, “милостивый государь” еще не растратился?» При этом дорога к сюжету о растратчике была у «модного писателя» извилистой: «Критика зашипела и стала обращать внимание писателя на узость его тем. Шахов испугался. И погрузился в газеты… Шахов быстро перешел на проблему растрат. Ответственный работник был обращен в кассира, а дамочки оставлены. Над характером кассира Шахов потрудился и наградил его страстями римского императора Нерона. Роман был написан в две недели и через полтора месяца увидел свет».