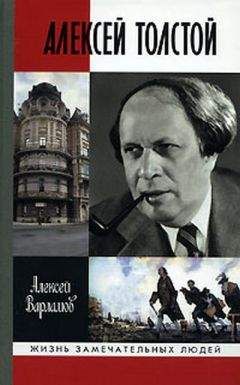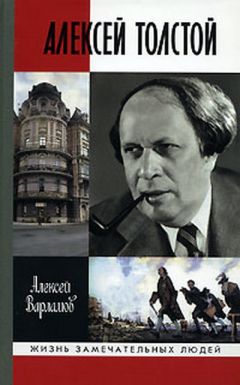Знал ли Толстой, что умирает? Скорей всего, да.
Что об этом думал?
На этот вопрос ответить непросто, хотя ответ поискать надо, ибо любой человек, а тем более писатель более всего раскрывается в своих отношениях со смертью. Пушкин, Лермонтов, Тургенев, Толстой, Чехов, Бунин, Андрей Платонов — у каждого был свой с ней роман, и каждый в своем творчестве отдал смерти дань. «Гробовщик», «Завещание (Наедине с тобою, брат, хотел бы я побыть)», смерть Базарова в романе «Отцы и дети» и рассказы о смерти в «Записках охотника», «Смерть Ивана Ильича», «Тоска», «Жизнь Арсеньева», «Господин из Сан-Франциско», «Третий сын» — этот ряд русских шедевров можно продолжать и продолжать. Но из немалого литературного наследия Алексея Толстого поставить сюда почти нечего, разве что Мишуку Налымова с его безобразной кончиной, да Франца Лефорта, приказавшего играть в минуты его кончины танцевальную музыку.
«Вообще это был мажорный сангвиник, — вспоминал Чуковский. — Он всегда жаждал радости, как малый ребенок, жаждал смеха и праздника, а насупленные, хмурые люди были органически чужды ему.
Когда мы жили в Ташкенте, мы условились, что будем ежедневно ходить в тамошний Ботанический сад, который нравился Толстому своей экзотичностью.
Два раза совместные наши прогулки прошли благополучно, но во время третьей я неосторожно сказал:
— Теперь, когда мы оба уже старики и, очевидно, очень скоро умрем…
Толстой промолчал, ничего не ответил, но едва мы вернулись домой, с порога же заявил своим близким:
— Больше с Чуковским никуда и никогда не пойду. Он такие га-а-адости говорит по дороге.
Вообще он органически не выносил разговоров о неприятных событиях, о болезнях, неудачах, немощах. Не потому ли он так нежно любил своего друга Андроникова, что Андроников повсюду, куда бы ни являлся, вносил с собой радостный праздник… Человек очень здоровой души, он всегда сторонился мрачных людей, меланхоликов, и всякий, кто знал его, не может не вспомнить его собственных веселых проделок, забавных мистификаций и шуток».
Толстой избегал приходить на похороны своих друзей, даже самых близких. В 1935 году не пришел на похороны Радина, еще раньше не был на похоронах Щеголева. Разве что Горького ему пришлось хоронить. Но тут уж невозможно было отвертеться, и хоронил Толстой Горького с видимым отвращением.
«Ругайте меня… Но смерть… — он как будто отпихивает что-то руками. — Я… Я не могу…
Это было естественно, понятно и человечно. Таков был Толстой. Не хотел, не понимал, не выносил смерти. Он слишком любил жизнь.
— Я не люблю ее финала, — сказал он, как бы подшучивая над собой».
А между тем его собственный финал был уже совсем близок. Толстому оставалось жить уже совсем чуть-чуть. Но именно тогда, зимой 1945-го, над головой у красного графа возникла страшная угроза и, как знать, что случилось бы на его веку и как и где окончил бы он свою жизнь, когда б не тяжелая болезнь.
Вот что рассказывал Фадеев Корнелию Зелинскому о своем разговоре со Сталиным последней военной зимой:
«Меня вызвал к себе Сталин. Он был в военной форме маршала. Встав из-за стола, он пошел мне навстречу, но сесть меня не пригласил (я так и остался стоять), начал ходить передо мною:
— Слушайте, товарищ Фадеев, — сказал мне Сталин, — вы должны нам помочь.
— Я коммунист, Иосиф Виссарионович, а каждый коммунист обязан помогать партии и государству.
— Что вы там говорите — коммунист, коммунист. Я серьезно говорю, что вы должны нам помочь как руководитель Союза писателей.
— Это мой долг, товарищ Сталин, — ответил я.
— Э, — с досадой сказал Сталин, — вы все там в Союзе бормочете “мой долг”, “мой долг”… Но вы ничего не делаете, чтобы реально помочь государству в его борьбе с врагами. Вот вы, руководитель Союза писателей, а не знаете, среди кого работаете.
— Почему не знаю? Я знаю тех людей, на которых я опираюсь.
— Мы вам присвоили громкое звание генерального секретаря, а вы не знаете, что вас окружают крупные международные шпионы. Это вам известно?
— Я готов помочь разоблачать шпионов, если они существуют среди писателей.
— Это все болтовня, — резко сказал Сталин, останавливаясь передо мной и глядя на меня, который стоял почти как военный, держа руки по швам. — Это все болтовня. Какой вы генеральный секретарь, если вы не замечаете, что крупные международные шпионы сидят рядом с вами.
Признаюсь, я похолодел. Я уже перестал понимать самый тон и характер разговора, который вел со мной Сталин.
— Но кто же эти шпионы? — спросил я тогда.
Сталин усмехнулся одной из тех своих улыбок, от которых некоторые люди падали в обморок и которая, как я знал, не предвещала ничего доброго.
— Почему я должен вам сообщать имена этих шпионов, когда вы обязаны были их знать? Но если вы уж такой слабый человек, товарищ Фадеев, то я вам подскажу, в каком направлении надо искать и в чем вы нам должны помочь. Во-первых, крупный шпион ваш ближайший друг Павленко. Во-вторых, вы прекрасно знаете, что международным шпионом является Илья Эренбург. И наконец, разве вам не было известно, что Алексей Толстой английский шпион?»
Действительно ли так Сталин думал или Фадеева испытывал, только Алексей Толстой умирал, и взять с него было нечего. Он лежал в Кремлевской больнице, где по соседству с ним находился Сергей Эйзенштейн. Так шутила над ними грозная тень.
«Я никогда не любил графа, — писал Эйзенштейн. — Ни как писателя, ни как человека. Трудно сказать почему.
Может быть, потому, как инстинктивно не любят друг друга квакеры и сибариты, Кола Брюньоны и аскеты? И хотя на звание святого Антония я вряд ли претендую — в обществе покойного графа я чувствовал себя почему-то вроде старой девы…
Необъятная, белая, пыльная, совершенно плоская солончаковая (?) поверхность земли где-то на аэродроме около Казалинска или Актюбинска.
Мы летим в том же 42-м году из Москвы обратно в Алма-Ату. Спутник наш до Ташкента — граф. Ни кустика. Ни травинки. Ни забора. Ни даже столба. Где-то подальше от самолета обходимся без столбика. Возвращаемся.
“Эйзенштейн, вы пессимист”, — говорит мне граф.
“Чем?”
“У вас что-то такое в фигуре…”
Мы чем-то несказанно чужды и даже враждебны друг другу. Поэтому я гляжу совершенно безразлично на его тело, уложенное в маленькой спальне при его комнате в санатории.
Челюсть подвязана бинтом. Руки сложены на груди.
И белеет хрящ на осунувшемся и потемневшем носу. Сестра и жена плачут.
Еще сидит какой-то генерал и две дамы. Интереснее покойного графа — детали. Из них — кофе.