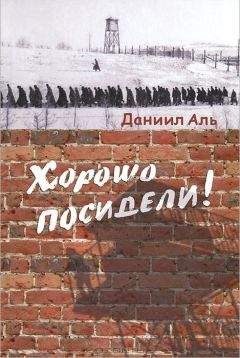Придя на наш «столичный» в Каргопольлаге 2-й лагпункт, он обратился к замначальника по режиму, капитану Тюгину, с просьбой: порекомендовать ему такого заключенного, который сможет написать для его газеты заметку или небольшую статью о трудовых подвигах лесозаготовителей. Капитан Тюгин вызывал к себе в кабинет и представлял корреспонденту нескольких заключенных. Ни один из них корреспонденту не подошел. Тем более, что каждый, под разными предлогами, от этого предложения себя «отмазывал». Главный предлог: «не умею писать». Капитан послал и за мной.
Корреспондент стал уговаривать меня выступить в качестве автора их газеты. Посулил перевести за статью гонорар на мой лагерный счет, несмотря на то, что напечатают мой материал под чужим именем и без указания того, что я заключенный. Само собой, в моей статье речь должна идти не о лагере, а о некоем леспромхозе. Я, разумеется, отказался от этого предложения. Корреспондент настаивал. Капитан Тюгин, в свою очередь, стал меня уговаривать. Не удобно, мол, отпускать корреспондента с пустыми руками.
Чтобы отвязаться, я предложил корреспонденту на пробу частушку.
— Но только на лесопромышленную тему, — сказал он.
— Понимаю, — сказал я. И прочел четверостишие:
Я доволен от души:
У моей у милки
Раньше в косах были вши,
А теперь опилки.
— Нет, нет! Вы нам не подойдете! — Замахал руками корреспондент. А капитан Тюгин рассмеялся и махнул рукой.
— Иди, бочки насчет воды проверь на 23-м бараке, — добавил он.
Прежде чем полезть на крышу 23-го барака, я пошел к себе в 4-й и записал в тетрадку свой экспромт. Тетрадка с тогдашней записью у меня сохранилась.
Развод, или «Раньше был у нас режим…»
Слово «развод» в лагерной жизни означает ежедневную утреннюю разнарядку бригад по работам за зоной — на лесоповал, на лесозавод, на продбазу, на «сельхоз», то есть на подсобное хозяйство, на промхоз, то есть в портняжные и сапожные мастерские, на конный двор и на другие работы.
Порой во время развода происходили весьма забавные случаи. О некоторых из них стоит рассказать.
Сначала, однако, необходимо обрисовать общую картину этого действа.
Каждое утро возле вахты собиралась огромная серая толпа заключенных. Зимой — все в телогрейках, бушлатах, в ватных штанах, в подшитых валенках третьего, а то и пятого срока носки. Валенки в лагеря поступали после списания их из армейских складов. Зимой на каждом зеке шапка-ушанка, как говорилось — на смеху. Летом большинство одето в штаны и куртки из чертовой кожи, в башмаках из прорезиненного брезента, на подошве, сделанной из старых автомобильных покрышек. Рассказывали, что изобретатель такой подошвы получил за свое рацпредложение Сталинскую премию. Шутка ли, сколько кожи, благодаря такой находке, удалось сэкономить на миллионах зековских башмаков!
За вахтой, в ожидании выпускаемых по одному через вахту лагерного заграждения работяг, стоял полукругом взвод солдат-конвоиров с винтовками наперевес или с автоматами в руках. Здесь же проводники со своими овчарками.
Развод происходил так.
На высоком крыльце вахты, обращенном внутрь зоны, появлялось несколько надзирателей. Поднимался туда и нарядчик. Так именуется заключенный, занимающий самую высокую из лагерных должностей. Нарядчик — «наряжает», назначает на различные работы всех, кто идет вкалывать за зону, а также «придурков» — тех, кто работает в самой зоне: конторских — бухгалтеров, счетоводов, плановиков, инженеров из конструкторского бюро, а также занятых в обслуге — дневальных, поваров, пожарных, хлеборезов, работающих в бане, в парикмахерской, в сушилке и дезкамере, в КВЧ — заведующего клубом, художников, библиотекаря, заведующего кабинетом культпросветработы, врачей и медбратьев лазарета. Разумеется, начальники могли дать нарядчику любое указание — кого, например, перевести с лесоповала в «придурки». Но в основном и это было в руках нарядчика. Можно, соответственно, себе представить масштаб его власти и его возможности брать всякого рода подношения и взятки.
Услышав свое имя, выкликаемый должен был ответить: «Я Сидоров! Статья — такая-то, срок — такой-то».
В руках у нарядчика, поднявшегося на крыльцо вахты, пофамильные списки бригад, по которым он выкликает каждого, отправляемого за зону, в «объятия» ожидающего конвоя. Именно в это время то и дело происходят всякого рода забавные «случаи». Надо еще сказать, что на разводах в любую погоду, но особенно летом, присутствуют и «зрители». Вокруг выкликаемых работяг, а нередко и на крышах бараков, стоящих рядом с вахтой, располагается «публика» из тех зеков, которые в этот день или в эту смену не выходят на работу. В основном — это блатные. Они то и дело криками и свистом реагируют на происходящее, порой превращая развод в своеобразный спектакль, скрашивающий лагерную жизнь.
Итак, несколько случаев из тех, что мне приходилось наблюдать на разводах.
В течение нескольких лет нас, заключенных, да и надзирателей тоже, забавлял один и тот же, всем давно известный, заранее всеми ожидаемый спектакль.
Держа в руках список одной из бригад, выходящих на лесоповал, нарядчик выкликал очередного зека, правильно произнося его фамилию:
— Анисовец!
Обладатель этой фамилии — полноватый мужчина лет сорока — по неписанным условиям игры не откликался.
— Анисовец! — еще громче кричал нарядчик. — Анисовец!! Где эта сука?! Опоздал, что ли?
Анисовец стоял молча.
— Такого нет! Еще не посадили! Еще гуляет на свободе! — раздавались выкрики.
Нарядчик внимательно вглядывался в список, как бы отыскивая неточность в написании нужной фамилии, и затем изображал, будто он ее нашел и исправился.
— Антисовец! — возглашал он громогласно.
— Я Антисовец! Статья 58–10, часть вторая. Срок десять лет! — бодро рапортовал Анисовец под всеобщий хохот.
Следует объяснить современному читателю, в чем причина столь бурного веселья, которое непременно охватывало «публику» в данный момент. Дело в том, что за антисоветскую агитацию, по статье 58–10, сидело в лагере большинство политических заключенных.
Подавляющее большинство дел по этой статье были «липовыми». Человек получал десять, а то и более лет «за разговоры», которых, к тому же, нередко вовсе и не вел, а если вел, то, как правило, не так, как о них донесли стукачи, как рассказывали свидетели, и не так, как их «углубили» в контрреволюционном смысле следователи на допросах. В силу массовости посадок по этой статье ее называли народной. Слова «антисоветчик», «антисоветский человек» стали бытовыми в устах следователей, а также партаппаратчиков и пропагандистов всех рангов, вплоть до вождей. И тем не менее, то, что от слова «антисоветский» появилось (будто бы) имя собственное, образовалась фамилия, воспринималось как нечто смешное, высвечивающее всю несерьезность и абсурдность ярлыка «антисоветский» по отношению к человеку. Меня всегда удивляло, что такой или подобный ход мыслей имел место в сознании (или подсознании) весьма далеких от политики блатных, «бытовиков», мелких воришек и хулиганов — тех, кто составлял основную «публику» происходивших на разводах «концертных номеров».