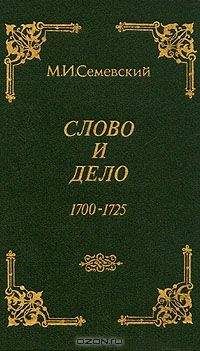Вторая особенность вытекает из первой. В определении генерал-аудиториата в вину поэту, кроме принятия им вызова на дуэль и участия в ней, поставлено новое обстоятельство: «написание дерзкого письма к Министру Нидерландского двора». Здесь уже, по нашему мнению, чувствуется несомненное влияние близости военного министерства (Чернышевых, Клейнмихелей) к царю и формулирование обвинения, не основанного на материальных уголовных законах. Вина, по их логике, видимо, заключалась в том, что «как смел всего лишь камер-юнкер и титулярный советник беспокоить столь высокопоставленную особу». Это тем более странно, что на всех уровнях (военно-судная комиссия, мнения войсковых начальников по делу, анализ доказательств в выписке для генерал-аудиториата, обе записки о мере прикосновенности иностранных лиц) сводническая роль нидерландского посланника в отношении сближения своего сына с женой Пушкина была вполне установлена и зафиксирована. Налицо тот случай, когда юридические выводы по делу не соответствуют установленным фактическим данным.
На следующий день, т. е. 18 марта 1837 г., на определении генерал-аудиториата по делу о дуэли Николай I «начертал» следующую резолюцию:
«Быть по сему, но рядового Геккерена, как не русского подданного, выслать с жандармом за границу, отобрав офицерские патенты».
Царь все-таки спас своего бывшего любимца, сведя его наказание чуть ли не к символическому по сравнению с тем, что было определено полковым или ревизионными судами. Не мог он его не спасти. Уж очень хорош был подсудимый на царский взгляд. Это не проливающие на Кавказе кровь декабристы, тщетно пытавшиеся такой ценой получить свободу. Это – совсем другое дело. И крови не проливал («в боях не участвовал»), и службу нес неважно, зато легитимист, сторонник свергнутого монарха, а это многое значит.
В принципе этим и заканчивается военно-судное дело, освященное именем великого русского поэта, хотя налаженная бюрократическая машина военного ведомства еще продолжала функционировать. И после царской конфирмации в деле есть еще несколько документов, относящихся к исполнению приговора. Это и отношение военного министра к директору аудиторского департамента с объявлением «высочайшей» конфирмации по делу и просьбой «поспешить» с отправлением нужных бумаг для исполнения «высочайшей воли». Это и приказ Николая I (завизированный военным министром) от 20 марта 1837 г. о лишении Дантеса чинов, приобретенного российского дворянского достоинства и разжаловании в рядовые. Это и сообщение директора аудиториатского департамента в Правительствующий Сенат об императорской воле по делу. Это, наконец, уведомление начальника штаба Отдельного гвардейского корпуса о том, что царская конфирмация объявлена подсудимым и о том, что направляются: Дантес – «к Дежурному Генералу Главного Штаба Его Императорского Величества для дальнейшего распоряжения о высылке его за границу, а Данзас – к коменданту Санкт-Петербургской Крепости, для выдержания его под арестом в крепости на гауптвахте два месяца».
Обида Дантеса на петербургское светское общество
Вот все, что находится в официальных материалах военно-судного дела о дуэли. Однако существует документ, который по своему содержанию должен был бы помещен в нем, но по тем или иным причинам отсутствует. 26 февраля 1837 г., т. е. уже после вынесения приговора по делу, но до принятия по нему решения генерал-аудиториатом Дантес написал и отправил письмо на имя презуса военно-судной комиссии, в котором он пытался очернить личность Пушкина. Он, так сказать, без зазрения совести выделяет такие будто бы присущие поэту качества, как злобность, мстительность, нетерпимость к окружающим, невоспитанность, деспотизм по отношению к своей жене, и пытался объяснить причины дуэли только этими чертами убитого им поэта.[254]
Для нас этот документ примечателен в другом. Как известно, в самые трудные для Пушкина дни, предшествовавшие дуэли, поэт был страшно одинок. Напротив, Дантес до последнего рокового дня трагической дуэли был принимаем, например, даже в салоне Карамзиных, людей, как будто бы наиболее близких поэту (Софья Карамзина в письме брату Андрею осуждает поведение Пушкина и его жены, сочувствует «несчастному» Дантесу). Однако после смерти Пушкина многие из тех, кто раньше брал сторону Геккеренов, вынуждены были изменить о них свое мнение. Выражение поистине всенародной любви к умирающему поэту, всенародная скорбь в связи с его трагической гибелью были настолько сильными, что заставили тех представителей светского общества, кто был способен на более или менее объективную оценку случившегося, понять наконец, что Пушкин был национальной гордостью и не мог быть судим лишь по меркам этого общества. Поэтому вход во многие дома, где Дантес еще вчера был с любовью и восторгом принимаем, стал для него закрыт. Это вынудило Дантеса излить жалобу председателю суда на такое неискреннее светское общество. Пытаясь убедить Бреверна в правдивости своей версии о причинах дуэли (поведение самого поэта), Дантес пишет: «Правда, все те лица, к которым я Вас отсылаю, чтобы почерпнуть сведения, от меня отвернулись с той поры, как простой народ побежал в дом моего противника…»[255] Настораживает тот факт, что почему-то этот документ не был приобщен к военно-судному делу, а находился и был обнаружен уже после революции в секретном архиве III Отделения. Не будем оглуплять ни руководителей этого ведомства, ни самого царя как его создателя и, выражаясь по-современному, его куратора. Место этому документу было отведено в секретных архивах вследствие того, что в нем присутствовала правда, которая никак не устраивала ни Николая I, ни его ближайшее окружение. Эта правда касалась оценки подлинного отношения светского общества к поэту и его убийце, того самого общества, с молчаливого согласия которого, а в некотором отношении и прямого поощрения Геккерены плели свои страшные интриги вокруг семьи Пушкина.
Тон обиженности, присутствовавший в письме Дантеса, объясняется и тем, что суровый приговор был для него полной неожиданностью. Подобного рода возможных последствий дуэли он для себя не допускал, так как ответственность за участие в подобных поединках обыкновенно сводилась, как отмечено, к незначительному наказанию. При этом явная поддержка его преддуэльного поведения светским общественным мнением выглядела в его глазах чуть ли не как аванс будущего милосердия юстиции или гарантия символического наказания, которое будет определено ему (зачтутся, по его мнению, судьями и обильно сыпавшиеся на него императорские милости). Дантес не мог не думать, что будущие его судьи – это те, кто принимал его, восторгался его плоскими казарменными шутками, почти открыто брал его сторону в создавшейся ситуации и даже поощрял его и приобретенного им в России отца к интригам против семьи Пушкина. И Дантес, и Геккерен-старший, и многие другие представители светского общества допустили при этом существенный просчет: не смогли предвидеть широкого общественного резонанса, выражения общего горя по поводу смерти любимого поэта, открытого негативного отношения людей к светскому обществу, допустившему эту национальную трагедию. Поэтому иной, более суровый подход суда к определению наказания за происшедшую дуэль объясняется изменившимся отношением части светского общества (одних – по причине позднего прозрения, других – по причине боязни проявления народного гнева) к оценке преддуэльных событий.


![Олег Хазин - Пажи, кадеты, юнкера[Исторический очерк]](https://cdn.my-library.info/books/44540/44540.jpg)