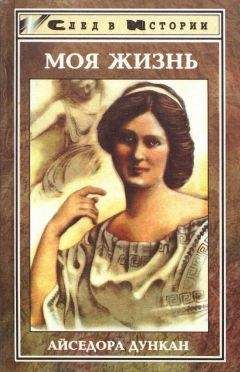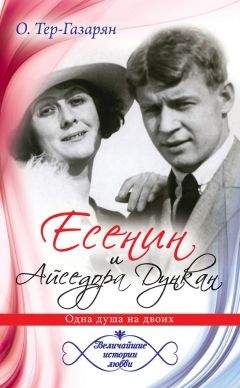— Зачем вам это нужно? — удивился я. — Ведь это чистая механика!
Есенин рассмеялся, смешал бумажки и вскочил с пола:
— Я поеду с вами! Вы на извозчике? На Пречистенку? — и быстрыми мелкими шагами устремился по коридору к выходу.
Мне довелось еще раз увидеть эти «квадратики», на которых характерным почерком Есенина (буквы не соединяются и рассыпаны, как зерна) написано: «снег», «огонь», «лист», «осень», «дерево», «горит», «плачет», «жует», «падает», «синий», «розовый», «красный».
На одной из выставок, организованных Литературным музеем, они фигурировали в качестве экспоната, демонстрирующего «метод» поэта. Табличка гласила: «Слова на отдельных листочках бумаги, которые Есенин раскладывал, составляя различные комбинации стихотворных строк».
Это меня огорчило. Ведь он стремился к пушкинской ясности, а не к сочетанию слов, взятых слева и справа. Игра в «слова» была всего лишь чудачеством, забавой…
Вот что нашел К. Зелинский в записях А. Серафимовича о Есенине:
«С огромной интуицией, с огромным творчеством, единственный в наше время поэт. Такой чудовищной способности изображения тончайших переживаний, самых нежнейших, самых интимнейших, — ни у кого из современников. И огромная, все ломающая смелость эпитетов, сравнений, выражений, поэтических построений. Сам. Ни у кого не спрашивая, никому не подражая… Чудесное наследство»[84]. Серьезнее было раннее увлечение «триптихами богородицы», культом «рогожной», «сермяжной» Руси, след детских лет и влияния на Есенина поэзии Николая Клюева, его «духовного отца» и «наставника» в годы юности.
…В 1915–1916 годах в концертах знаменитой исполнительницы русских народных песен Плевицкой появился новый участник. В аккуратной синей поддевке, в смазных сапогах и с подстриженными под скобку волосами, приглаженными растительным маслом, он выходил «первым номером» на эстраду, низко, в пояс кланялся публике, разгибался и, помолчав, говорил, резко «окая»:
— Я не поэт, а мужик.
Это был Николай Клюев. Одна из его книг — «Сосен перезвон» — имела успех. Клюева заметил Блок.
Соблазнившись путешествиями, я, не бросая журналистики, несколько лет работал в крупнейшей российской гастрольной организации, возглавляемой очень интересным человеком — В. Н. Афанасьевым. (В свое время он был приговорен царским судом к смертной казни через повешение за революционную деятельность, но бежал из тюрьмы и жил под чужой фамилией.) Здесь я и столкнулся с Клюевым.
Трудно было разгадать этого «мужика». Он был умен, а «работал под дурачка». Был хитер, а старался казаться простодушным. Был невероятно скуп, а прикидывался добрым. В одной из поездок, когда он на ходу пробирался из вагона в вагон, ветром унесло его шапку. Несмотря на предзимнее время, Клюев до конца поездки так и не купил новой, потому что в Москве у него была вторая шапка.
Вокруг шеи он наматывал шарф необычайной длины. Причем невероятно медленно и методически, и этим почему-то приводил всех нас в бешенство.
Помню, как мы, направляясь из Москвы на концерт Плевицкой во Владимир, сели в новенький вагон III класса — «зеленый», — в поезде местного сообщения не было ни «желтых», ни «синих».
В купе Клюев начал разматывать свой шарф, предварительно заняв себе «верхнюю полочку» (его выражение) каким-то аккуратненьким деревянным чемоданчиком. Мы нетерпеливо ждали конца этой процедуры, так как собирались играть в карты. На этот раз Клюев разоблачался дольше, чем обычно. Мы готовы были растерзать его. Когда он наконец тщательно сложил шарф наподобие подушки и, осторожно взобравшись на полку, замер, мы заговорщицки переглянулись и, убедившись, что Клюев мгновенно заснул, стали тут же надевать свои пальто и шляпы, схватили чемоданы и разбудили Клюева:
— Подъезжаем к Владимиру!
А поезд наш, взяв разгон, мчался еще мимо пустых и посеревших подмосковных дач.
Клюев молча и неторопливо начал наматывать шарф в обратном направлении, прихватывая по-кучерски остриженные волосы на затылке. Увидев, что мы открываем дверь купе, он заторопился и, протиснувшись вперед, быстро прошел по пустому коридору на площадку, чтобы быть первым и при выходе.
Мы задвинули обратно дверь, разделись и сели за карты. Клюев пробыл на площадке часа полтора. Он давно понял, что его разыграли, но упорно продолжал стоять в тамбуре. Это было, конечно, жестоко с нашей стороны, и Плевицкая ругала нас, но мы решились на эту злую шутку внезапно и единодушно.
Промерзнув на площадке, Клюев вернулся в купе и, не глядя на нас, размотал шарф. Затем улегся в прежней позе — «на бочку» — и замер. За всю поездку он не проронил ни слова.
Потом я долго не видел Клюева. Есенин много говорил о нем, читал его стихи и однажды появился на Пречистенке с ним и с Коненковым — высоким, широкоплечим, крепким и моложавым. А Клюев был все тот же: в неизменной поддевке, в русской косоворотке, в сапогах, с теми же промасленными волосами и елейным выражением лица. Только шарф сгинул куда-то, но я уверен: шапка была та, вторая, оставленная в Москве.
Обращался Есенин к этому времени с Клюевым не по-сыновьи, снисходительно и скрытно-враждебно.
Однажды произошел такой случай.
Айседора попросила Клюева почитать стихи. Клюев читал много и охотно. Айседоре, не знавшей русского, стихи понравились своей напевностью.
— Надо, — обратилась она ко мне, — чтобы Клюев преподавал детям русскую литературу.
Я начал ей объяснять, что по наркомпросовским правилам это запрещено. Вдруг Есенин:
— Ни в коем случае не допускайте этого. Вы не знаете политических взглядов Клюева. Да и вообще — это ерунда!
Да и Клюев, хотя и елейничал с Есениным и даже лебезил перед ним, иногда вдруг огрызался. Помню, как однажды Есенин сказал Клюеву:
— Старо! Об этом уже и собаки не лают! Не съедите нас!
Клюев сначала ощетинился, потом, глянув на Айседору, слащаво улыбнулся и, тыча в сторону Есенина большим пальцем, ядовито пропел:
— В Рязани пироги с глазами, их ядять, а они глядять!
Дункан, конечно, ничего не поняла. (Позднее я встретил эту же фразу, кажется, в одном из писем Клюева к Есенину.)
Есенин рывком поднялся из-за стола. В потемневших глазах его была ненависть. Клюев смиренно остался сидеть. Айседора теребила меня: «О чем они?»
Где-то С. Городецкий, поэт и современник Есенина, писал, что даже у близких Клюеву людей возникали к нему приступы ненависти и что Есенин однажды сказал: «Ей-богу, я пырну ножом Клюева!»
Позднее Есенин писал о своем бывшем учителе:
И Клюев, ладожский дьячок,
Его стихи, как телогрейка,
Но я их вслух вчера прочел,
И в клетке сдохла канарейка…
Клюев своеобразно «отомстил» Есенину, создав легенду, которой ввел в заблуждение такого уважаемого и опытного литератора, как Вс. Рождественский.