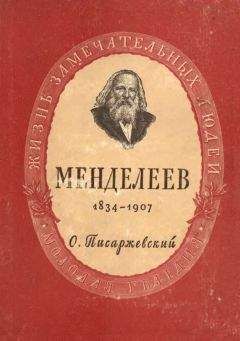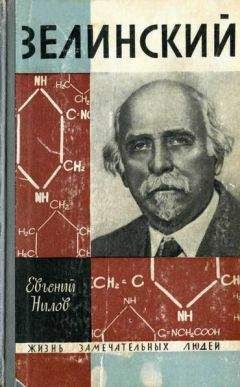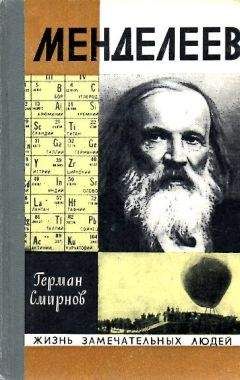«С высоты примерно четверти версты было видно, что, пролетев над селом и еще одной деревней, аэростат опустится примерно в лесок, лежащий за деревней. За этим леском шла открытая поляна без хлебов и изгородей. За ней начиналась другая деревня… Лучше всего было опуститься перед этой деревней, перелетев лесок. Тут даже хлебов не повредишь, потому, что это было место луговое или покосное. Только так нужно было сделать, чтобы не спуститься в лесок, находившийся после первой деревни, а перелететь его. Все мое внимание направлялось именно сюда. Мне говорят теперь часто и много о счастливых случайностях, меня сопровождавших в аэростате и при спуске. И я невольно припоминаю ответ Суворова: «Счастье, помилуй бог, счастье, да надо что-то и кроме него». Мне кажется, что всего важнее, кроме орудий спуска… спокойное и сознательное отношение к делу. Как красота отвечает, если не всегда, то чаще всего высокой мере целесообразности, так удача – спокой- ному и до конца рассудительному отношению к цели и средствам».
Спуск совершился благополучно между деревнями Ольгино и Малиновец Калязинского уезда Тверской губернии. Менделеев охотно отвечал на расспросы собравшихся сельчан. Явившийся сельский староста заверил, что «за пузырем-то мы посмотрим, будь покоен», и угрожающе добавил: «Да и за тобой присмотрим и тебя побережем». «Ты кто такой?» – закричал он, уже входя в раж, но крестьяне не дали Менделеева в обиду расходившемуся «блюстителю». Тут подъехала тележка на одной лошади с тремя седоками, и Менделеев услышал такой разговор: «Ведь я говорил, что летит комета, и на ней человек сидит. Вот ты не верил, видишь теперь: вот комета и вот человек. Ну что, поверишь мне теперь?»
«Эти речи, – рассказывал Менделеев, – говорил добродушнейшим образом крестьянин Андрей Прохорович Мушкин Прокофию Ивановичу Погодину, владельцу трактира, расположенного около села Спаса на Углу. Они пригласили меня в тележку, взялись довезти, и целую дорогу рассказывали мне про то, что видели, как я лечу и спускаюсь, и что «эдакая комета в первый раз к ним прилетела», и они хоть и выражаются таким простым языком и не знают, как назвать машину, на которой я прилетел, но понимают, в чем дело, знают, что это должно быть для затмения полетели из Москвы, слышали даже об этом, всем объяснят, и в кармане у них даже есть книжка о затмении, которая им многое объяснила… Чрезвычайно картинно описывал все дело именно Андрей Прохорович. Он называл аэростат не иначе, как кометою, и описал подробно.
какую быструю смену ощущений произвело в нем все виденное. Он даже говорил, что необыкновенно счастлив тем, что сразу разобрал, в чем дело, и во всю жизнь свою никогда этого не позабудет. Потребовал даже, чтобы я у него на книжке о солнечном затмении написал свою фамилию, день и число, а также просил, чтобы я дал ему свою фотографическую карточку».
Может быть, где-нибудь у потомков Андрея Прохоровича Мушкина, среди которых, весьма возможно, есть уже и ученые и смелые пилоты, – все пути открыты перед крестьянскими сынами в Советской стране, – хранится автограф Дмитрия Ивановича Менделеева и его портрет, как память о спокойном мужестве русского исследователя, которое продолжает жить в его наследниках.
А Дмитрия Ивановича Менделеева, когда он в серый денек ранней осени 1887 года опустился на землю из облаков, к которым так стремился, снова плотно обступали «назойливые вопросы» жизни, его дальше и дальше звала «настоятельная необходимость искать верного пути».
XXII. МЕНДЕЛЕЕВ УХОДИТ ИЗ УНИВЕРСИТЕТА
Менделеев прилагал все силы к умножению и сплочению «научной дружины», как он называл естествоиспытателей. В 1869 году вновь созданное Русское физико-химическое общество насчитывало 35 членов. Через десять лет, в 1879 году, их стало 119.
В 1889 году их было 233, а в 1899 – 293; в 1913 – 514. В наше время в химической промышленности СССР работают десятки тысяч химиков с высшим образованием.
Говоря о науке, обыкновенно спрашивали, чего наука достигла и что она дала для жизни. Менделеев хотел, чтобы это был один и тот же вопрос. Поэтому он хотел видеть участие своей «дружины» во всех делах родной страны. На съезде русских естествоиспытателей и врачей в декабре 1879 года он выступил с программным заявлением о служебной роли естествознания[65]. Съезд встретил оратора овацией, но решительно не знал, как поступить с его
заявлением. Оно было передано в секции, где, казалось, и было погребено. Но на самом деле слова Менделеева не терялись. Они расходились, как круги по воде, и возбуждали ответную взволнованность в самых далеких уголках России. То вдохновленный ими земский врач предпринимал на свои скудные средства исследование источников пресных вод в засушливой степи, то провинциальная кафедра университета собирала на лето экспедицию в поисках новых месторождений минерального сырья. В «Ученых записках», издававшихся далеким окраинным университетом, появлялся вдруг научный отчет, над которым много десятков лет спустя застывал в восторге кто-либо из новых искателей, раскапывавших старину ради настоящего и будущего, слитых уже нераздельно. Этих новых искателей нашего времени томит та же неутолимая жажда свершений, они также живут бескорыстной радостью поисков и находок, но их стремления уже совпадают с помыслами и задачами всего государства. Это высшее счастье. Ими руководит, их направляет, их торопит государственный народнохозяйственный план. А в те далекие времена каждый искатель сам для себя придумывал план разведок. Кому пригодятся добытые им результаты? Когда ими воспользуются добрые люди? Этого он не знал. И только у самых смелых и мужественных хватало силы пронести в будущее свой труд, свою мечту – сквозь заслоны могущественных врагов в стране, с трудом освобождающейся от остатков крепостнического уклада.
Менделеев, заглядывая в будущее, говорил на съезде естествоиспытателей:
«Естествознание в России, еще столь недавнее,-
мы видим – мужает. Юноше прилично помышлять только об интересах головы и сердца, а муж должен помнить и о живых возможных практических потребностях. А потому нам пора подумать о том, чтобы послужить нуждам той страны, где мы живем и растем. Работая на пользу всемирной науки, мы, конечно, вносим свою дань родине. Но, ведь, у нее есть нужды личные, местные. К числу таких относятся те, которые восполнить и удовлетворить мы можем легче и удобнее, чем кто-либо другой, нам они виднее и доступнее. Будем же их сознавать, чтобы не сказали когда-нибудь: «они собирались, обсуждали всемирные интересы науки, а близкого, знакомого, в чем могли оказать прямую пользу стране, – того не видели».