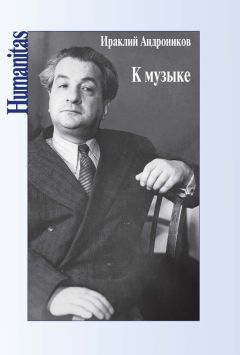До отъезда из Петербурга я получил две телеграммы: одну от Пачини, директора и импресарио театра Сан-Карло в Лиссабоне, который просил меня выступить там четыре раза в «Гамлете», и другую — от Дормевилля, старейшего из театральных агентов, с предложением спеть несколько спектаклей в Казино в Монте-Карло. Эти интересные предложения пришли в такой момент, когда мне прежде всего необходимо было хоть немного отдохнуть. Но возможность осуществить, наконец, свою мечту и выступить на сцене в роли Гамлета после стольких лет работы над этим образом не могла не соблазнить меня. Заманчивой представилась также перспектива после долгих месяцев морозной стужи, туманов и почти вечной ночи насладиться мягким климатом. Все это вместе взятое побудило меня принять оба предложения.
Фортуна может улыбнуться один единственный раз в жизни. Пропустить этот момент нельзя. Им следует тотчас воспользоваться и упорно продолжать путь, не позволяя себе почивать на лаврах. Все, что пропущено — потеряно. Поэтому я уже через три дня уехал из Петербурга в Монте-Карло. Не знаю, по чьему распоряжению, но железная дорога предоставила мне отдельное купе первого класса, которое оказалось сплошь заставленным цветами. Провожала меня большая толпа почитателей. Здесь были важные господа, молодые девушки, держатели абонементов, студенты, энтузиасты, преданные друзья. Проводы были до такой степени торжественными и вместе с тем сердечными, что, когда поезд тронулся, я едва мог совладать с охватившим меня волнением.
В течение шести месяцев, прожитых мною в России, я вел самый суровый, поистине аскетический образ жизни, и этой моей самозабвенной преданности искусству, преданности безраздельной, я обязан тем, что, приехав в Монте-Карло, почувствовал себя уже отдохнувшим, совершенно здоровым, бодрым и готовым выступить на новых полях сражения, с уверенностью в победе. Я спел несколько опер в великолепном здании Казино. Начал с «Бал-маскарада», затем шел «Дон Паскуале» и в заключение «Севильский цирюльник». Рауль Гюнцбург, художественный директор Казино, предложил мне еще до моего отъезда заключить контракт на десять спектаклей в будущем сезоне.
И, наконец, Лиссабон. Туда, вняв моим настойчивым просьбам, приехала ко мне Бенедетта. Это было накануне моего выступления в роли Гамлета. Благодаря ее высокой духовной поддержке, благодаря помощи, которую я черпал в ее советах, я годами создавал образ Гамлета и хотел чтобы в торжественный час последнего испытания женщина моей мечты, верная и мудрая вдохновительница моего артистического творчества, присутствовала при моем выступлении. То, что она была здесь, окрыляло меня. Нет на свете человека, который смог бы создать нечто прекрасное и великое без духовного светоча чистой любви. В процессе моего развития и артистического становления именно она, Бенедетта, постоянно направляла и корректировала, поддерживала и подбадривала меня до тех пор, пока мальчишка, случайно встреченный на маленьком английском пароходе, не превратился в артиста и человека, в самом глубоком и полном смысле этого слова.
В следовавших одна за другой утомительных репетициях оперы у меня возникали частые споры с дирижером оркестра Луиджи Манчинелли. Он не одобрял некоторых особенностей моей интерпретации; ему не нравились кое-какие паузы и, тем более, привносимые мной добавления, особенно в третьем действии. На прогонной репетиции — Манчинелли в тот вечер сильно нервничал по причинам быть может посторонним спектаклю,— он потребовал, чтобы я пел оперу полным голосом. Я, считая это излишним, отказался, и дело дошло у нас до довольно резких высказываний. В первой части монолога, где я заменял некоторые слова, Манчинелли остановил оркестр, заметив, что таких слов в либретто нет, и крикнул суфлеру, чтобы он получше мне подсказывал. Но я сам перед этим приказал суфлеру помолчать, так как мне не нужна была его помощь и меня только раздражал его голос. Тогда маэстро окончательно рассвирепел. Он закричал, что это нелепость; что он дирижировал «Гамлетом», когда пели самые большие артисты: Морель, Кашман, Пандольфини, Менотти и что он не допускает, особенно со стороны артиста, представляющего собой нечто гораздо меньшее, чем они, никаких нововведений; должны быть взяты те темпы, которые указывает он, Манчинелли, и необходимо строго следить за текстом либретто, ничего не меняя по собственному усмотрению. Наступила зловещая тишина...
Я подошел к рампе и, обратившись к Манчинелли, сказал, что со стороны человека, столь высокого артистического плана, невеликодушно так унижать меня перед оркестром и что таким образом он сам, по собственному усмотрению низводит меня на низшую ступень. Что же касается упомянутых им знаменитых артистов, то я напомнил ему, что они почти все умерли, во всяком случае — умерли для сцены и поэтому ему следует довольствоваться теми, которых может предоставить ему теперешнее поколение. С другой стороны, сказал я, моя интерпретация — результат долгих лет работы вдумчивой и добросовестной, и я не столь глуп, чтобы в театре с такими славными традициями отдать себя на суд публики без уверенности в успехе. В конце моей тирады Манчинелли вскочил и воскликнул с неожиданно прорвавшимся приятным римским произношением: «Знаешь, что я тебе скажу, сынок? Делай, как хочешь. Увидишь сам, что скажет публика. А я умывая руки!» Сразу успокоившись, я ответил, улыбаясь, что этой фразой он показал себя достойным потомком Понтия Пилата. На эту реплику весь оркестр ответил взрывом смеха, разрядившим накаленную атмосферу. И репетиция закончилась в самом мирном настроении.
Театр на первом представлении «Гамлета» был точно наэлектризован. Когда директор сцены пришел спросить, готов ли я, я похолодел и кровь точно остановилась у меня в жилах.
Мне казалось, что я стал невесомым и что голос у меня пропал. Я взял портрет мамы и поцеловал его, мысленно взывая к ее духу с просьбой дать мне нужную силу, чтобы победить в предстоящей страшной битве. Бенедетта, не перестававшая молиться за меня, поцеловала меня в лоб и, собственноручно перекрестив, ласково подтолкнула меня из уборной. Кое-кто из артистов, произнеся обычное пожелание «Ни пуха, ни пера» — счел нужным предупредить, что лиссабонская публика исключительно холодна и поэтому я не должен смущаться, если меня не встретят аплодисментами.
Появлению Гамлета в опере Тома предшествует виолончельное solo. Когда я вышел на середину сцены, воцарилось мертвое молчание. Эта публика видела меня сегодня в первый раз, и я, конечно, не ожидал встречи аплодисментами. Тем не менее всегда неприятно впечатляет выступление перед незнакомой публикой, которая как будто пришла сюда не для того, чтобы признать твою победу, а с целью жестоко тебя осудить, и ждет только случая, чтобы резким свистом открыто высказать свою враждебность. И тогда, действительно, публика представляется тебе тем тысячеголовым чудовищем, которое так мастерски описано известным романистом в знаменитом произведении.