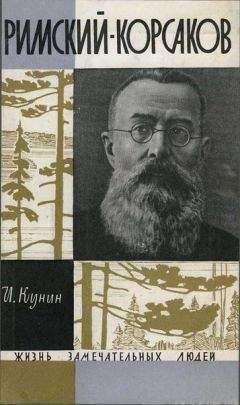После изгнания нацистов в одном из домов, окружавших двор, был устроен музей гетто. Когда мы втроем, моя жена, Зускин и я, пришли в этот двор, рисунки и надписи на стенах были еще совсем свежими. Видно, их не раз заставляли подновлять. Только кое-где их подпортили оспинки и щербинки от пуль и осколков.
В музее, среди кандалов, орудий пыток, фотографий, все кричало, все было тем, что великий немецкий гуманист нашего столетия Альберт Швейцер называл "братством боли".
Самыми душераздирающими были рисунки одного из участников — мальчика, попавшего в гетто десяти лет от роду. Он прожил немыслимо долгую жизнь для обитателя гетто — целых два года. Видно, дорожили им и его искусством обреченные, оберегая его ценой собственных жизней — другой цены в гетто не было — от голодной и холодной смерти, от рук палачей.
Все эти два года мальчик рисовал много, исступленно. Он рисовал гетто, рисовал то, что видел вокруг. Рисовал углем на обрывках газет, бумаг и обоев, рисовал карандашом, а несколько рисунков — каким-то чудом, — даже акварелью. Портреты узников гетто. А вот целая картина «Выбраковка». Прямо на мостовой в старинном резном кресле сидит в форме СС пожилой офицер с утомленным лицом. К нему тянется очередь обреченных, облаченных в лохмотья призраков без пола и возраста. Офицер легким движением руки показывает — направо или налево. Ясно, что тем, кому направо, один путь — в Понары, а кому налево — можно еще какое-то время гнить в гетто. А вот и автопортрет мальчика на фоне синих и черных небес. Тонкое библейское лицо, огромные, видимо черные, глаза, вобравшие в себя последние взгляды множества людей…
Неподалеку от гетто находился францисканский монастырь. Его величественный строгий серый собор стоит и сейчас, скрывая немалое количество тайн. Я был знаком с настоятелем монастыря, и некоторые из этих тайн он мне раскрыл. (Кстати, советские власти пощадили здание монастырского собора, но взорвали еврейскую синагогу XII века в Вильнюсе — одну из старейших в Европе, на что не решились даже нацисты.)
Гитлер не жаловал христиан. Недаром, вскоре после прихода к власти в апреле 1933 года он публично заявил в Рейхстаге: "Или христианин, или немец, нельзя быть одновременно и тем и другим."
Особенно недолюбливал он католиков, в частности францисканцев, прижимал их, но расправиться на свой манер опасался, тем паче в католической, упрямой Литве, твердой в вере.
Отец-настоятель происходил из старинного польского аристократического рода, окончил Ягеллонский университет в Кракове, Оксфорд и Духовную академию в Риме. Ему претил "новый порядок", установленный гитлеровцами, он не одобрял их цели и методы. Кроме того, братья- францисканцы были смиренными служителями Бога — Бога, но не дьявола. В противовес конвейеру смерти, устроенному нацистами, они, под эгидой своего настоятеля, создали конвейер жизни, конвейер спасения. Выкрадывали людей из гетто и советских военнопленных из лагеря, переправляли их в безопасные места или скрывали у себя в монастыре. Хотели они спасти и мальчика, но не успели. В который уже раз руки убийц оказались проворнее рук спасителей. Но рисунки мальчика монахи заполучили, сохранили и передали в музей гетто. Об этом мне рассказывал не только настоятель, но и один из спасенных, выкраденных из гетто. Еврей по национальности, физик-теоретик по профессии, он был спрятан в монастыре, принял католичество, а затем и постриг, и разделил с остальными монахами их судьбу. Отец-настоятель вместе со своей братией тщаниями генералиссимуса через несколько лет после войны принял мученический венец..
…Мы долго рассматривали рисунки мальчика. А Зускин, знаменитый шут в трагедии Шекспира "Король Лир", поставленной в Еврейском театре на Малой Бронной в Москве, в жизни неистощимый выдумщик, не нашел тогда никакой, даже самой немудрящей шутки, чтобы хоть как-то сдержать волнение. Он плакал, и плакал навзрыд. Может быть, предчувствовал, что в сталинских застенках его участь будет еще страшнее, чем судьба мальчика. Во время "борьбы с космополитизмом" Зускин с тяжелым нервным заболеванием был помещен в больницу, где его в лечебных целях надолго усыпили. Спящего его взяли "сталинские соколы" и перевезли на Лубянку, откуда он не вышел…
На другое утро, как и условились, я пришел к Нехаме. Она уже ждала меня у подъезда, улыбнулась своими карими с зеленым просверком глазами, предложила сесть в машину. Мы поехали, и я сказал даже с некоторой досадой:
— Ты, я вижу, все-таки решила показать мне достопримечательности Вильнюса, так я их знаю лучше тебя.
— Того, что я тебе покажу, ты еще не видел, — тихо отозвалась Нехама.
Мы приехали на одну из окраин, куда уже наступал город бетонными рядами своих безликих Черемушек. Оказались у старого еврейского кладбища. Чугунные ворота его были повержены. Возле них находилось какое-то хлипкое сооружение, обитое фанерой, на двери которого висела бумажка с надписью на литовском и еврейском языках: "Изготовление памятников "и советы.
Я подумал о том, что памятник мне ни к чему, а вот хороший совет очень не помешал бы, но войти не решился.
На кладбище было шумно. Сверкая огромными стальными ножами, натужно ревя, разравнивали площадку бульдозеры, рыли котлован зубастые экскаваторы. Молодые машинисты работали весело, азартно, с огоньком. Трескались под гусеницами и превращались в осколки каменные надмогильные плиты, в перевернутых пластах оранжевой глины кое-где чернели пятна земли или праха, копошились толстые жирные личинки майских жуков, кое-где виднелись трухлявые кости. Скрежетали гусеницы о камни, рычали моторы, сыпались из ковшов экскаваторов комки глины, в горячем воздухе стояла густая сладковатая пыль. Пахло соляркой, разогретым металлом, машинным маслом, каким-то тленом. В стороне лежал штабель из целых могильных плит, видимо, имеющих особое предназначение.
По кладбищу, чудом не попадая под гусеницы бульдозеров, бродили, казалось, совершенно бесцельно, какие-то старые евреи с пейсами и. что-то невразумительно бормотали. Некоторые из них, несмотря на теплый день, были облачены в длинные, на лисьем меху, крытые сукном шубы, в полах которых они то и дело путались. Они словно сошли со страниц книг Шолом Алейхема и, потерянные, невесть что делали здесь.
От едкой пыли, густых запахов, от этих бродячих теней мне стало душно, стало плохо, и я взмолился:
— Уедем отсюда!
— Хорошо, — каким-то странным тоном сказала Нехама.
Мы выехали из города и, проехав минут двадцать, остановились на довольно крутом подъеме. Внизу посверкивал медлительный Нерис. За рекой простирались заливные луга, откуда тянуло запахом свежей травы и полевых цветов. Вдали синел лес. Я с наслаждением вдыхал свежий, душистый воздух.