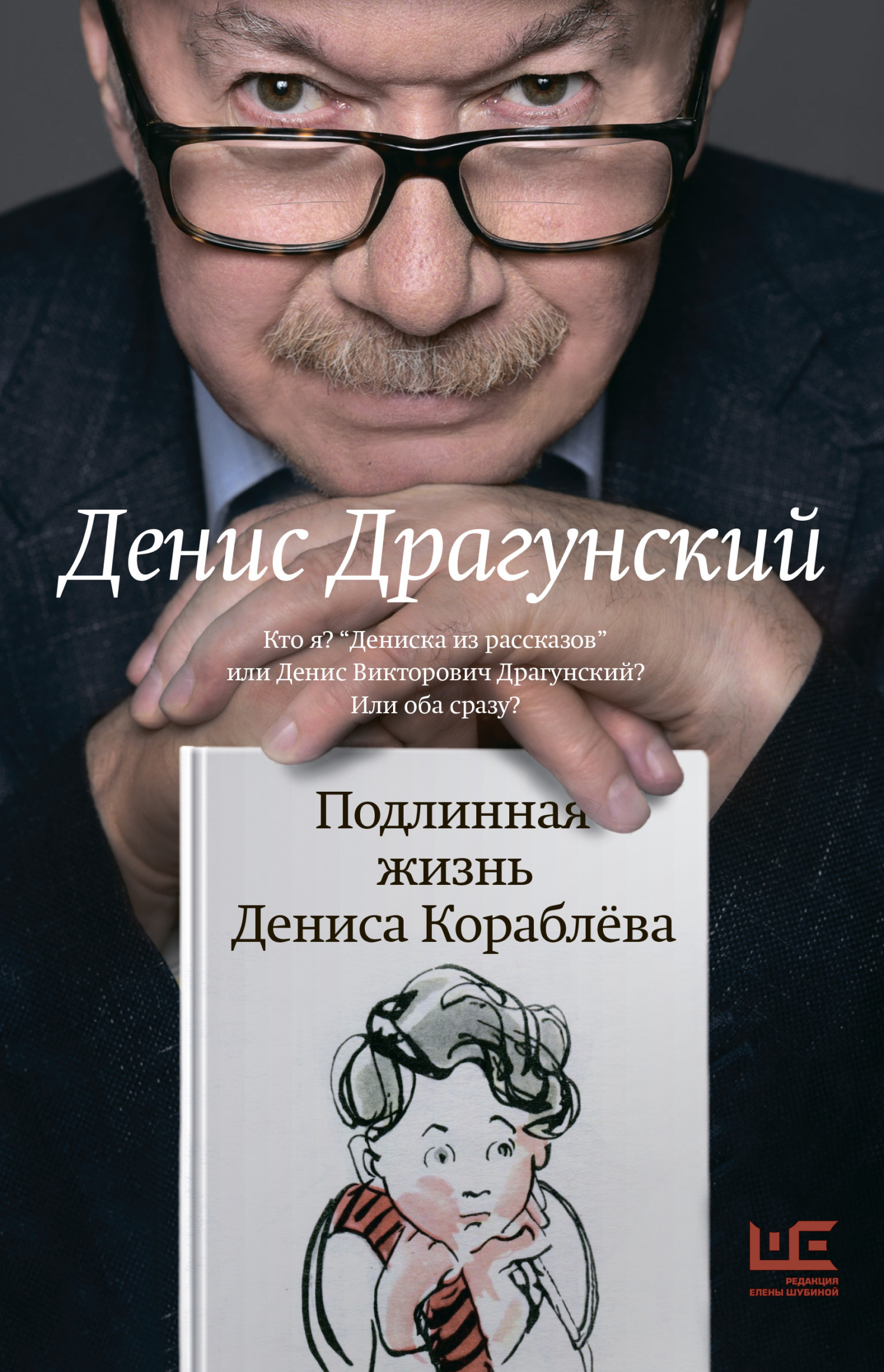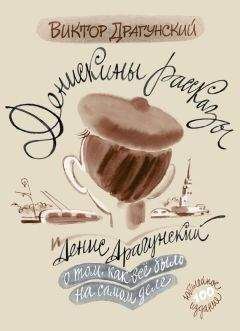наш общий знакомый – литератор Виктор Горохов. Увидев Вилли, Горохов стал говорить с ним по-английски. Вилли же, напротив, отвечал ему на чистейшем русском языке. Бдительные товарищи тут же позвали милицию и сказали, что на их глазах иностранец пристает, а может быть, пытается завербовать простого советского человека. Милиционер на всякий случай потребовал документы и увидел, что иностранца зовут Виктор Семенович Горохов, а простого советского человека – Вильям Джонович Карлин. Пришлось обоих вести в милицию. Но все кончилось хорошо.
Вилли, надо сказать, Англию любил не очень. Он даже рассказывал, у нас дома на кухне сидя, о своей первой поездке в Лондон – первой после тридцатилетнего, наверное, перерыва. Ведь он уехал из Англии совсем еще юношей. У него там остался родной брат, старший, с которым он провел самые прекрасные молодые годы. Вилли вытаскивал носовой платок и прикладывал его к уголкам глаз. «Самые прекрасные годы! – говорил он. – Когда я приехал, я сразу разыскал его телефон и позвонил. «Питер, – говорю, – это я, это Вилли, твой брат!» А он мне спокойно так говорит: «О, Вильям, привет, ты звонишь из Москвы?» – «Нет, – говорю, – я в Лондоне, я здесь, я хочу тебя видеть». Он говорит: «Да, пожалуй, давай встретимся, ты надолго? Надеюсь, ты уезжаешь не завтра? Потому что завтра я занят. О, на целую неделю? Давай встретимся в четверг». Договорились встретиться в пабе, пожали друг другу руки, выпили по кружке пива. Наверное, я стал совсем русским. Я вернулся в гостиницу и плакал».
Однако еще через несколько лет Вилли с Леной все-таки уехали в Англию. Кто-то из общих друзей был там у них в гостях и рассказал, что в их семье все переменилось. В московской жизни царила Лена. Она была актрисой, красавицей, светской дамой, а Вилли рядом с ней воспринимался как комический персонаж. В Лондоне все стало по-другому. Вилли стал строгим и скуповатым главой семьи. Однажды прямо на глазах этого визитера Лена – именно потому, что приехали гости из Москвы, – попросила у Вилли разрешения не идти на работу, то есть пропустить свой урок. Она преподавала актерское искусство в районном клубе. Но Вилли только глазами сверкнул. Лена проглотила язык и стала собираться. У них в доме не было газовой плиты, только камин и электричество, поэтому Лена всякий раз должна была спрашивать у Вилли разрешения вскипятить чайник. Он, как правило, разрешал.
В Москве же Лена, повторяю, считалась мало того что красавицей. Считалось, что она волшебным образом сохранила молодость и в свои пятьдесят выглядела самое большее на сорок, и все кругом говорили: «Ах, она так выглядит! Ах, как она выглядит!» Она занималась какими-то физкультурными упражнениями (слова «фитнес» тогда не было), ходила к косметичкам и делала себе искусственный загар. В Москве эта процедура называлась «соллюкс».
Однажды мама спросила Ксюшину няню Полю – спросила после ухода гостей, среди которых была Лена: «Поля, помните эту высокую даму в синем платье? Вот как вы думаете, сколько ей лет?» Мама хотела изумить простую провинциальную тетку. Но Поля хмыкнула и сказала: «Сколько лет, сколько лет – старуха и есть старуха! Что шестьдесят, что семьдесят – какая разница?»
Няня Поля у нас появилась после рождения моей сестры Ксении. История с рождением Ксюши описана в чудесном рассказе моего папы, который там и называется «Сестра моя Ксения». Хотя на самом деле все было, конечно, совсем не так.
Во-первых, у мамы это была вторая попытка родить еще одного ребенка, кроме меня. Удачная попытка, я имею в виду.
А вот неудачная. Мама моя собралась рожать в возрасте для тех лет – дело было в начале шестидесятых – весьма немолодом. К сорока. Она носила очень тяжело. К нам приходил Борис Эммануилович Шульман, знаменитый акушер-гинеколог, который, как нынче выражаются, вел беременность, – высокий, статный старик с орлиным носом, частный доктор. Говорил, что сердцебиение плода слабое, уходил, а мама в голос рыдала. Рыдала, сидя в «кабинете-гостиной» поперек дивана, опершись спиной о стену, накрыв живот простыней и выставив наружу голые ноги и шевеля некрасивыми толстыми большими пальцами. «Простонародные у меня пальцы на ногах, – говорила мама. – Зато на руках – что надо». Говорила, конечно, в другие часы. А после ухода доктора – выла и заливалась слезами.
Почему-то они с папой хотели еще ребенка. Вырастив меня, дорастив до подросткового возраста, они, уже немолодые люди (маме почти сорок, а папе почти пятьдесят) решили, наверное, снова испытать молодое счастье отцовства-материнства – но окончилось это все печально.
Поздно вечером маму увезли рожать. Папа поехал вместе с ней, то есть повез ее на машине. Утром я проснулся, в квартире было пусто. Я понял, что папа с мамой в роддоме. Было воскресенье, я был не в школе. Потом, часов в одиннадцать, дверь раскрылась, в квартиру вошел папа и, не дав мне задать вопрос (а я-то, естественно, хотел спросить «мальчик или девочка?»), обнял меня и сказал: «Ну вот, не будет у тебя маленького братика». Я чуть не заплакал. Пошел в свою комнату, долго там сидел, потом долго стоял на балконе. В голове у меня было совсем пусто. Потом пришел папа и, не выходя на балкон, из комнаты спросил: «Ты правда огорчаешься, что у тебя не будет братика?» – «Конечно правда», – сказал я.
Огорчался ли я на самом деле – не знаю. Скорее, грустил. Помнил, что мальчика папа с мамой хотели назвать Антоном, а для девочки имени не было – потому что они были уверены, что будет мальчик. Была какая-то сложная система подсчетов, «чья кровь моложе», – и получался мальчик. Мальчик и получился, но неживой. Мне правда было грустно, но – легкой грустью подростка, у которого много дел и впечатлений.
Но когда маму привезли из роддома (мы вместе с папой за ней ехали, на папиной машине, на бело-серой «Волге») – вот тут я начал по-настоящему огорчаться, потому что мама рыдала целыми днями. Выла, как деревенская баба, злобно думал я. Папа ее утешал. На ее рыдания «Чем я Бога прогневила?» он отвечал, что это просто несчастный случай, катастрофа, кирпич, упавший на голову, снаряд, который попал именно в этот блиндаж, а не в тот. «Ну вот и представляешь себе, – в отчаянии говорил он, пытаясь пробиться сквозь мамин вой, заглушить его доводами разума, – ну вот война, фронт. Ну вот затишье, и вдруг один-единственный немецкий снаряд летит и падает, и взрывается, и убивает солдата. Ну разве можно сказать, что этот солдат бедный чем-то Бога прогневил? Несчастный случай, я же