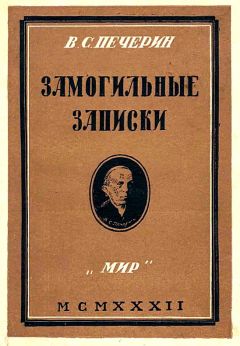Он посвящает Чижова во всякие мелочи своей жизни, обсуждает городские события и театральные слухи. Письма его становятся все непосредственнее и живее. Они дышат такою же «милою веселостью», какую он находит в письмах Чижова.
В эти годы он читает обо всем, что касается России. Его очень заинтересовала книга немецкого исследователя Гакстгаузена «Исследования внутренних отношений, народной жизни и в особенности сельских учреждений России», на которую ссылался еще Герцен как на образцовое описание сельского быта – общины со всеми ее выгодами и недостатками. «Для тебя я выпишу только одну фразу: "Русская администрация вообще более доверяет своей бюрократической мудрости, чем врожденным инстинктам и здравому смыслу народа". Это одно стоит целых томов нашей истории со времен Петра» (1 мая 1877 года).
Круг интересов Печерина все время расширяется. «Я более и более погружаюсь в историю», – пишет он. Так же как Толстого, его заинтриговали опубликованные Иваном Гагариным документы о предполагаемом принятии Александром I католичества на смертном одре: «Отчего ж это доселе не было известно и никто ни слова об этом не говорил? Хотелось бы узнать, что об этом думают в России» (письмо от 11 октября 1877 года). Его интересы простираются и в даль исторических событий, и в политические страсти сегодняшнего дня, и в изучение окружающего мира. «В монахе, – писал Герцен в "Былом и думах", – каких бы лет он ни был, постоянно встречается и старец и юноша. Он похоронами всего личного возвратился к юности. Ему стало легко, широко (…) иногда слишком широко…» Печерин придает этой мысли совсем другой смысл, он шутливо замечает, что «на старости люди впадают во второе младенчество: я же впал в студенчество» (27 июня 1874 года). Он обнаруживает все новые интересы, неопределенные стремления всей жизни теперь нашли цель рядом, в изучении множества новых для него предметов – восточных религий и сравнении их с прежде ему известными. Он читает Евангелие в переводах на санскрит, персидский и арабский, а изучив таким образом эти языки и два раза от доски до доски перечитав Коран, каллиграфически переписывает свой перевод Евангелия от Матфея на арабский язык. Но особенный интерес вызвал в нем буддизм.
Теперь он думает о том, что можно «приятно провести остальные годы жизни в самых благородных занятиях, т. е. в изучении законов природы» – последнее он подчеркивает, полемически отвергая всякую философию, немецкую метафизику и риторику, которым отдал все предшествующие годы. «У нас есть физический кабинет и химическая лаборатория – я с нашими студентами за панибрата и иногда присутствую при их исследованиях. Вот например на днях мы рассматривали с микроскопом круговращение крови в лапе лягушки (разумеется, живой). Что может быть этого приятнее?» (27 июня 1874 года).
Разумеется, в голову сразу приходит мысль о Базарове, но еще забавнее и парадоксальнее сформулировал мысль о радости изучения лягушки Писарев в статье 1864 года «Мотивы русской драмы»:
Пока один Базаров окружен тысячами людей, не способных его понимать, до тех пор Базарову следует сидеть за микроскопом и резать лягушек. (…) уж если Павел Петрович Кирсанов не утерпел, чтобы не взглянуть на инфузорию, глотавшую зеленую пылинку, то молодежь и подавно не утерпит и не только взглянет, а постарается завести себе свой микроскоп и, незаметно для самой себя, проникнется глубочайшим уважением и пламенной любовью к распластанной лягушке. А только это и нужно. Тут-то именно, в самой лягушке-то, и заключается спасение и обновление русского народа (Писарев 1956: 392).
Удивительна общность интонации авторов столь разных воззрений, как Достоевский, Писарев и Печерин, но озабоченных одними и теми же проблемами и дышащих общим «воздухом эпохи». В сущности Печерин пишет Чижову о том же, что имеет в виду Писарев. Объясняя необходимость и спасительность анатомирования лягушки, Писарев в этой статье доказывает, что пора отказаться от фразерства, которым жило предыдущее поколение, что молодежь должна учиться «отыскивать везде живое явление», а не принимать «отражение явлений в чужом сознании», будь это Шатобриан или Прудон. Печерин, отдавший столько сил претворению в жизнь чужих, отвлеченных идей, на старости лет находит удовлетворение в опытах по изучению природных явлений, с каким-то детским интересом ставит физические и химические опыты, причем относится к своим занятиям с юмором – им движет не столько научный интерес, сколько живая любознательность, даже простое любопытство. Удивительно точно он определил природу своего интереса к науке и угадал соответствие своих интересов в естественной истории своему месту маргинала в русской литературе.
Я погружен в глубокие таинства микроскопа: вся поднебесная, все что есть в облацех воздушных, на земле и под землею, в водах океана, рек и озер – все идет под увеличительное стекло. Ведь тут именно видна разность наших стремлений, – пишет он Чижову, – у тебя все делается гуртом, оптом, ты двигаешь громадными массами, меньше тебе ничем угодить нельзя. А я напротив, занимаюсь бесконечно мелкими предметами: козявками, мошками, пестиками, тычинками и их плодотворною пылью, разрезываю, анализирую ячейки, молекулы, атомы и чем более какой-нибудь предмет недоступен обыыкновенному глазу, тем более я нахожу в нем артистической красотыг (22 февраля 1875 года. Курсив мой. – Н. П.).
Здесь Печерин предвосхищает понимание Чеховым и Набоковым родства между художественным и научным изучением и пониманием мира.
Его радуют изобретения цивилизации, направленные на облегчение жизни. С восхищением он рассказывает, как легко писать химическим пером, опуская его в воду: «Это перо пишет разными цветами: вот как видишь это похоже на фиолетовый цвет. Вот как люди умудряются. Химия есть наука наук. Она-то и есть настоящая метафизика, потому что она одна проницает в самую крайнюю глубь бытия» (18 июня 1877 года). Химия проникает в глубь бытия, а спасение и обновление русского народа заключается в распластанной лягушке – шутливое замечание Печерина перекликается даже стилистически с полемическим вызовом Писарева, направленным против заимствованных идей и пустого многоглаголания.
С такой же иронической серьезностью он описывает свое увлечение воспитанием собаки:
А о себе скажу, что у меня теперь кроме физических инструментов и химических снаряжений, еще завелась огромная ньюфаундлендская собака, черная как смоль с белым пятном на груди и с кудрявым хвостом. Это одна из добродетелей, наследованных мною от моего деда Симоновского: он каждый день сам своеручно кормил всех своих собак, приговаривая: Блажен человек милуяй скот свой (14 августа 1875 года).