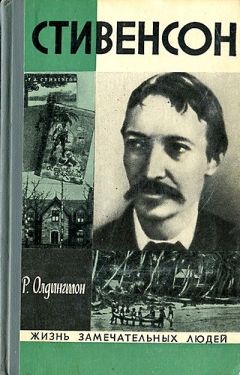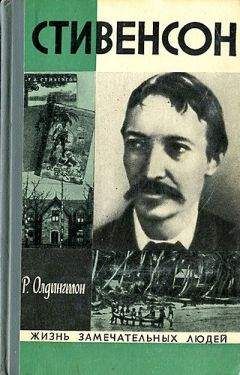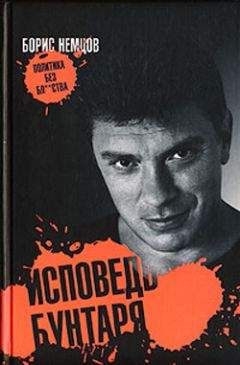Хотя в сборник «Через прерии» вошли главным образом очерки, написанные для Скрибнера, то есть в большей своей части, если не все, созданные еще в Америке, на озере Саранак, сборник появился в печати лишь в апреле 1892 года. Это был последний сборник очерков Стивенсона, напечатанный при его жизни («Ювенилии» — вышел посмертно), и в нем не заметно ни малейшего спада его таланта, хотя вместе с невинной претенциозностью и самообольщением юности из его очерков в какой-то степени ушло и прежнее очарование. Глядя на эти тщательно отделанные эссе, невольно улыбнешься при мысли, что человек, певший некогда славословие безделью, стал одним из самых добросовестных и трудолюбивых писателей своей эпохи. А если сюжеты очерков Стивенсон по большей части черпал из собственной юности, причину недалеко искать: видимо, он подсознательно чувствовал, что американских читателей куда больше интересует сам автор, нежели его философские раздумья, а поскольку Луис вполне разделял их вкус, это лишь подхлестывало его вдохновение. И он полностью сохранил свой дар строить фразу.
«Ограды крошечных двориков перед дверьми, ведущими в полуподвал, витрины любимых лавок, запах кожи, мокнущей в бочках с дубовым корьем, воскресный перезвон колоколов, звонкие голоса детей — его соотечественников, доносящиеся с площадки для игр, — все эти с детства знакомые предметы, звуки, запахи внезапно затопляют сердце восторгом и щемящей болью!»
Безымянный герой этого отрывка сам Стивенсон, и вспоминает он тут Эдинбург своего детства.
В следующем отрывке о студенческих годах будущих инженеров писатель опять опирается на личный опыт, поскольку все, о чем он говорит, находилось за пределами возможностей обыкновенных студентов, отцы которых не были по воле случая строителями маяков:
«Ты бываешь на открытом воздухе, слоняешься в гавани — самая приятная форма безделья, попадаешь на необитаемые острова, вкушаешь реальные опасности, таящиеся в море; приобретаешь навыки, сноровку и изобретательность и имеешь возможность их применить, ты начисто излечиваешься от любви (если она у тебя была) к городской жизни. А затем тебя возвращают в город и запирают в четырех стенах конторы».
Здесь перед нами вновь Стивенсон-чаровник, пожалуй, более естественный и менее манерный, чем в предыдущих сборниках, но по самой сути своей тот же Стивенсон, вплоть до его неуловимого пристрастия к «Краткому катехизису», которое лежит в основе многих взглядов Луиса, несмотря на всю его богемную браваду. Очерк «Pulvis et Umbra» («Прах и Тень») был задуман как «поучение по Дарвину», но его заключительной части наверняка оказали бы благосклонный прием в пресвитерианской церкви Шотландии:
«…Не дай, господи, чтобы человек устал творить добро, отчаялся в своих стремлениях, не получив награды, или произнес слово жалобы. Для веры достаточно того, что все сущее стонет из-за своей бренности и все же стремится вперед с необоримым постоянством; быть не может, чтобы эти усилия остались втуне!»
Вслед за этим очерком идет «Рождественская проповедь», заканчивающаяся галантным комплиментом по адресу Хенли. Это писалось в Саранаке после пресловутой «ссоры», и от Стивенсона требовались благородство и душевная щедрость, чтобы сказать про стихотворение Хенли, посвященное памяти сестры, что оно «прекрасно и мужественно» и «лучше, чем сумел бы я сам, выражает то, что и я хотел бы сказать». У некоторых людей, оказавшихся на месте Стивенсона vis-à-vis с Хенли, это прозвучало бы иронически, но Стивенсон действительно так думал, и в 1893 году он вновь пишет Хенли поздравления по поводу последней, только что вышедшей книги стихов.
На этот раз Стивенсон, не в пример прежнему, получил за серию очерков вполне приличные деньги, но он прекрасно понимал, что отдельное издание не разойдется в достаточном количестве экземпляров, чтобы покрыть все растущие расходы. Как он сам говорил, «такие книги оправдывают себя лишь косвенно», хотя и нравятся рецензентам, а это тоже ценно и «дает пару шиллингов в год». Естественно, главное внимание Стивенсона было устремлено на беллетристику, которая имела большой спрос и предоставляла более широкие возможности для выражения его разностороннего таланта. Во главе группы романов зрелого Стивенсона стоит трагедия одиночества и рока — «Владетель Баллантрэ», в котором, как это ни парадоксально, Стивенсон добивается успеха, соединяя такие, казалось бы, несовместимые элементы, как движение якобитов в Шотландии; кровная вражда братьев; взаимонепонимание между супругами; слуга столь же верный, хотя и не столь гротескный, как Калеб Болдстон;[146] преданный Владетелю индийский факир, совершающий невероятные чудеса; буря на море, во время которой порядочный человек покушается на убийство; приключения в Америке XVIII столетия… Это трагедия, героем которой является негодяй.
Стивенсон оставил короткое воспоминание о «генезисе», как он это называет, «Владетеля Баллантрэ»,[147] воспоминание настолько короткое, что только разжигает, но не удовлетворяет наше любопытство. Оно заслуживает внимания всех поклонников Стивенсона, поскольку позволяет понять метод, согласно которому он, вероятно, создавал те свои произведения, которые не были ему подсказаны во сне «человечками». Однажды холодным вечером в Саранаке Стивенсон кончил перечитывать «Корабль-призрак» капитана Мариетта[148] (я не читал эту книгу, но, судя по всему, это переработка легенды о «Летучем голландце») и совершенно сознательно, вдохновляемый «духом соперничества», задумал сочинить собственную историю, наподобие этой. Он стал рыться в памяти в поисках знакомого всем бродячего сюжета, и тут вдруг ему пришел на ум рассказ дяди, Джона Бэлфура, об одном «похороненном и вновь ожившем факире».
Затем Стивенсон припомнил историю, задуманную им самим за девять лет до того «в горах Шотландии под шум дождя, напоенного запахом вереска и болотных трав, когда мысли его были полны перепиской Этолов[149] и преданиями о возмездии небес». Отсюда ведут начало семейство Дэррисдиров и «трагическая вражда». А затем по той или иной причине Стивенсон ввел в рассказ кавалера Борка, прообразом которого послужил молодой ирландец, приятель Луиса в молодости, «юноша с удивительно наивными понятиями о нравственности, вернее, вообще без них, легко поддающийся любому влиянию, продукт подражания тем, кем он восхищался…». Фантастический набор литературных ингредиентов, который любой писатель превратил бы в неудобоваримое месиво. Нужен был Стивенсон, чтобы найти правильный рецепт. И не всем безоговорочно по вкусу то блюдо, которое вышло в результате. Саймондс, критиковавший Стивенсона со всей безжалостной откровенностью старого друга, считал, что роман не заслуживает получаемых им похвал за «психологический анализ» и что в нем нет удовлетворительного объяснения власти Джемса Баллантрэ над семьей, которой он причинил столько зла. Но прав ли он? Саймондс, никогда не нарушавший родительской воли, не знал, как это знал Стивенсон, сколько раз блудный сын может возвращаться под отчий кров; к тому же Владетель был старшим из двух сыновей, он потерял родовые владения и невесту, вышедшую замуж за его брата-соперника, потому что отправился на чужбину защищать «законного короля». Он мог предъявить свои права, и он пользовался этим, пока не довел Генри сперва до дуэли, затем до безумия, а в конце концов до смерти. Стивенсон знал предрассудки и верования мелкопоместного дворянства горной Шотландии XVIII века и скорее всего был прав. Что до «психологического анализа», то наше мнение о том, хорош он или плох, зависит от того, считать ли персонажей Стивенсона исторически достоверными лицами или нет. Как всегда, женщина — самая слабая нить во всей пряже. Есть люди, которые, подобно Джорджу Муру и Суиннертону,[150] всю пряжу считали искусственной. Как Э.Ф. Бенсон[151] считал искусственным и ее создателя. Что же, о вкусах не спорят.