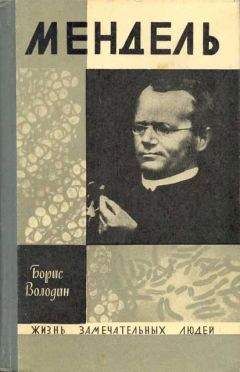Длительных изменений основных метеорологических показателей смерч не вызвал. Существенные изменения наступили лишь два часа спустя, во время сильной грозы».
И конечно же, Грегор Мендель в первую очередь должен поведать о том, что он увидел и по мере возможности исследовал, своим добрым друзьям по Ферейну естествоиспытателей. Не, проходит и месяца — 9 ноября 1870 года он занимает место докладчика на очередном заседании общества. Закончив описательную часть, он тщательно разбирает ход событий. В его время происхождение смерчей и ураганов объясняли простым перемещением нагретого воздуха. Такое объяснение Менделя не удовлетворяет: начало событий им зарегистрировано. Это встреча разнонаправленных горизонтальных потоков воздуха, сочетавшаяся с грозой, прошедшей после полудня. Он, строит гипотезы касательно происходившего при этом охлаждения воздуха и конденсации паров, пытается осмыслить гидродинамические явления. Так будут рассуждать полвека спустя…
Но притом он позволяет себе внести в этот доклад элементы отнюдь не академичные. Ведь речь о событии, пережитом на собственной спине им самим и его слушателями, а потому он заключает так:
«…Я постарался собрать возможно большее число свидетельств многочисленных очевидцев события, которые могли бы дополнить и подтвердить собственные мои наблюдения. Из полученных сообщений я хотел бы вкратце упомянуть лишь об одном, ибо оно представляется мне небезынтересным, поскольку и восприятие и изложение в отличие от прочих лишено обычной наивности.
Мой информатор, особа женского пола, в составе небольшой группы была приглашена на уборку урожая в виноградник, который находится на северном склоне Желтой горы, против остановки конки. (Хочу предупредить, что участники этой группы до сего случая никогда не имели отношения к физическим или метеорологическим занятиям.) Их внимание привлек внезапно возникший сильный шум и грохот, донесшийся от подножья горы с противоположного берега реки. Тотчас они увидели там огромную, достающую до облаков, пламенеющую колонну, которую они приняли сначала за столб густого дыма. Они подумали, что там вспыхнул лесной пожар, и это им показалось тем более достоверным, что вскоре они увидели над берегами Шварцавы и Мюльграбена струи воды, которые, по их мнению, должны были бить из брандспойтов пожарных, прибывших к месту происшествия. И вдруг они с ужасом заметили, что «столб дыма» перешагнул через Мюльграбен и со страшным грохотом двинулся к винограднику. Тогда, взывая к милости господа бога, они забились в близлежащую сторожку, но тот, кого они боялись, сумел настичь их и в этом убежище, ибо несколько мгновений спустя крыша над их головами была содрана одним рывком. Лишь благодаря их чрезвычайным усилиям они не были похищены вместе с ней… Затем мой информатор увидела Ужасного, танцующего по виноградникам и садам Шрейбвальдштрассе к Шпильбергу, и испугалась, что горящие предметы, которые нес смерч, могли упасть на город и поджечь его».
Право, он показал себя отличным рассказчиком, и — как всегда — тонким наблюдателем, и — как уж не раз — человеком, упорно стремящимся проникнуть в суть дела.
Он так закончил доклад:
«Мы не можем остановиться ни на чем ином, как на воздушной гипотезе, сотканной из воздушного материала и имеющей весьма воздушную основу».
Он достаточно твердо стоял на почве строгих фактов, чтобы позволить себе пошутить вот так.
Ниссль написал в воспоминаниях, что журнал Менделя с метеорологическими наблюдениями — размером «in folio» — был передан ферейну. Последние записи относились к ноябрю 1883 года.
…Патер Амброзиус Пойе еще летом деликатно сообщил штатгальтерству, что прелату Менделю врачами предписан абсолютный покой.
…Он уже боялся темных окон и просил проверять запоры, но при этом, несмотря ни на что, все-таки не хотел изменять привычкам. Не хотел отказаться от того, что составляло ощущение жизни. И как ни было это трудно теперь, трижды в день — близ семи утра, потом около двух пополудни и еще в девять вечера — принуждал себя подняться с кресел или постели, тепло укутывался (впрочем, простуды он остерегался всю жизнь) и, поддерживаемый Иозефом, появлялся на пороге своей приемной. Телохранители-сенбернары шли рядом.
В прежние времена, когда наступал какой-то из этих урочных часов, он даже прерывал уже разгоревшуюся беседу, сколь ни была она интересной иль важной. И кто бы ни ждал его — брат прокуратор или брат-эконом с неотложными монастырскими делами, просители или служащие ипотечного банка с бумагами на подпись или, наконец, гости, даже самые званые, — любезно просил повременить, пока освободится. Весь монастырь обедал в два, настоятелю подавали позднее.
Теперь же дела монастыря были осложнены до предела, и он, прелат Мендель, был тому причиной, и братья по общине старались без надобности к нему не заходить: проявишь излишек внимания — а что подумает патер Рамбоусек, глава оппозиции, объединявшей всех, ибо довольных аббатом в капитуле не было. Прокуратор и эконом сами вершили повседневные дела. А те дела, для разрешенья которых нужна была аббатская власть, откладывались в долгий ящик — до вступления Рамбоусека на его пост, — на пост, который, как правило, становился вакантным, либо — что реже — если лицу, его занимающему, давали епархию, либо — что чаще — при вмешательстве смерти.
И в банке тоже обходились теперь без него: бумаги подписывали новые члены директората, усаженные в доходные кресла все тем же энергичным лидером либералов Хлумецким. Завсегдатаями его монастырской квартиры были теперь одни доктора.
Он еле нес свое тяжелое, отекшее тело. В движениях и жестах появилась теперь та парадоксально-медлительная хлопотливость, какая бывает у беспомощных людей. В речи сильнее прежнего слышался селянский говорок его родины с размазанными, превращенными в шипящие «п» и «т». И из-за всего этого казалось, что в пустой теперь приемной, заставленной модной инкрустированной перламутром и эбеновым деревом мебелью в бидермейеровском стиле, появлялся не хозяин сей обители и сей мебели, не сановный иерарх церкви, а старый немец-крестьянин из Кулендхен, проделавший в отчаянности пешее паломничество через всю Моравию из-под Нова Ичина к святому Томашу и Милосердным Сестрам Брюннским, чтоб вымолить исцеление и годик-другой еще на этом свете,
Опершись о плечо слуги, он спускался по лестнице к двери, и, прежде чем нахлобучить на голову неизменный черный цилиндр — память о крайне скромной дани, какую смог отдать когда-то цивильному щегольству, — ждал здесь, пока притихнет стук молотков в груди, висках, затылке. И в саду он тоже делал остановки.