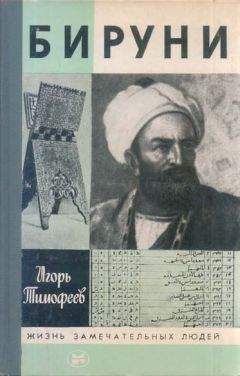И то и другое удалось ему в полной мере. Газнийские войска еще только наводили через Джейхун переправу из лодок, связанных железной цепью, а Али-тегин и состоявший у него на службе сельджукский предводитель Исраил уже покинули Бухару, бежали в пустыню, надеясь отсидеться в глухом месте» переждать, пока гроза пройдет стороной.
Кадыр-хан, двигавшийся из Кашгара, прибыл в Мавераннахр с опозданием. Дойдя до Самарканда, он круто повернул на юг и вскоре натолкнулся на ставку Махмуда — сказочной горой возвышался посреди бескрайней степи гигантский шатер султана, вмещавший, если верить летописцу, 10 тысяч всадников, не считая челяди и слуг. Разбив лагерь в одном фарсахе от Махмудовой ставки, Кадыр-хан выслал послов с предложением встретиться для разговора с глазу на глаз.
Встреча произошла в открытом поле, в оговоренном месте, куда каждый из государей взял с собой лишь охрану из нескольких человек. Вот как описывал эту встречу летописец:
«Завидев друг друга, оба сошли с коней; эмир Махмуд еще прежде отдал казначею драгоценный камень, завернутый в платок; теперь он велел вручить его Кадыр-хану. Кадыр-хан также принес с собой драгоценный камень, но вследствие овладевшего им страха и смущения забыл о нем. Расставшись с Махмудом, он вспомнил о камне, послал его через одного из своих приближенных, попросил извинения и вернулся в свой лагерь… На другой день Махмуд велел разбить большой шатер из вышитой парчи и приготовить все для угощения; после этого он через посла пригласил к себе в гости Кадыр-хана. Когда пришел Кадыр-хан, Махмуд велел как можно более пышно украсить стол; эмир Махмуд и хан поели за одним столом. После окончания обеда они перешли в «зал веселия»; зал был великолепно разукрашен редкими цветами, нежными плодами, драгоценными камнями, вышитыми золотом тканями, хрусталем, прекрасными зеркалами и разными редкими вещами, так что Кадыр-хан не мог оправиться от смущения. Некоторое время они сидели; Кадыр-хан не пил вина, так как у царей Мавераннахра нет обычая пить вино, особенно у царей тюрков. Некоторое время они слушали музыку; потом Кадыр-хан встал; тогда эмир Махмуд велел принести достойные его подарки, именно золотые и серебряные кубки, драгоценные камни, редкости из Багдада, хорошие ткани, драгоценное оружие, ценных коней с золотыми уздечками, усеянными драгоценными камнями, десять слоних с золотыми уздечками и палками, осыпанными драгоценными камнями; мулов с золоченой сбруей, носилки для езды на верблюдах, дорогие ковры армянской работы, табаристанские материи, индийские мечи, алоэ из Камбоджи, сандаловое дерево, серую амбру, самок онагров; шкуры берберских тигров, охотничьих собак, соколов и орлов, приученных к охоте на журавлей, антилоп и другую дичь. Он отпустил Кадыр-хана с полным почетом и извинился перед ним за недостаточность угощения и подарков».
Махмуд добился всего, что хотел. Впечатление, произведенное им на Кадыр-хана, превзошло все ожидания. Потрясенный могуществом и богатством Махмуда, Кадыр-хан попросил его о помощи в борьбе за Бухару. Махмуд согласился, хотя заведомо знал, что никогда на это не пойдет. Не спешил он и с обещанием скрепить дружбу с кашгарским ханом родственными узами. Когда один из сыновей Кадыр-хана явился через некоторое время в Балх за обещанной ему в жены дочерью Махмуда, незадачливого жениха бесцеремонно отослали обратно к отцу, объяснив, что свадьба откладывается в связи с походом султана на индийский город Сомнатх.
Зорко наблюдая за малейшими колебаниями политической конъюнктуры в Мавераннахре, Махмуд, конечно, не мог не заметить усиливающегося влияния кочевых огузских племен, возглавлявшихся предводителями из рода Сельджука. Еще в ходе преследования Али-тегина Махмуду удалось хитростью заманить в свою ставку сельджукского военачальника Исраила, который позднее был сослан в отдаленную крепость в Индии, где и закончил свои дни. После пленения Исраила предводители нескольких сельджукских племен явились к Махмуду с просьбой позволить им переселиться в Хорасан. Взамен они обещали снабжать его армию провиантом и выделять туркменскую конницу в случае войны. По повелению султана кочевникам были выделены пастбища на границе Хорасана, в районе Феравы, Абиверда и Серахса. Там газневидские власти обложили их такими немилосердными поборами, что новые подданные империи время от времени вынуждены были браться за оружие, дабы спасти от голодной смерти себя и своих детей. Дело приняло столь опасный оборот, что один из хорасанских наместников Махмуда всерьез советовал ему либо поголовно истребить сельджуков, либо отрубить каждому из них большой палец, лишив их таким образом возможности стрелять из лука.
Поначалу Махмуд не торопился с решением, но постепенно кочевники стали весьма внушительной силой, и ему в конце концов пришлось бросить против них регулярную армию, которая вытеснила их с границ Хорасана. Часть их бежала в пустыни Дихистана, другая — отступила в направлении Балханских тор; небольшая же группа прорвалась к Исфахану и двинулась оттуда на запад, грабя на своем пути местных жителей и угоняя скот.
Вспоминая об этих событиях, Махмуд ощущал неприятный холодок у сердца — безошибочное чутье, доставшееся ему от его кочевых предков, подсказывало, что степняки сошли со сцены лишь на время — рано или поздно они вновь появятся на границах, и совладать с ними будет очень нелегко.
Западные провинции требовали постоянного внимательного пригляда, и, отправляясь чуть ли не каждую осень в новый поход в Индию, Махмуд ни на миг не выпускал из поля зрения тревожные хорасанские дела. Днем и ночью гонцы-аскудараны мчались к султанской ставке с донесениями хорасанских проводчиков: одно, официальное, в кожаном футляре, хранилось на дне походного кошеля, другое, составленное тайнописью верными людьми, — в восковой упаковке под потником седла.
Аскудараны на ходу спрыгивали с коней, подбегали, лобзали землю, вручали оба донесения личному слуге султана. Всякий раз, срывая печать, Махмуд хмурился, стискивал зубы — не явилась ли недобрая весть. Всюду, где тонко, могло оборваться, но более других беспокоили Махмуда его собственные семейные дела.
В семье уже много лет не утихала яростная, непримиримая вражда. Недоверие и неприязнь пронизывали взаимоотношения двух сыновей, единокровных братьев, и каждый из них, разумеется, ничем не выдавая своих чувств, втайне ненавидел отца. Махмуд догадывался об этом, но не показывал виду, хотя в минуты одиночества все чаще стала являться ему назойливая мысль о том, что есть в этой распре и его грех — не раз и не два под горячую руку сталкивал он братьев лбами, поощряя, пусть даже без умысла, соперничество в видах на престол.