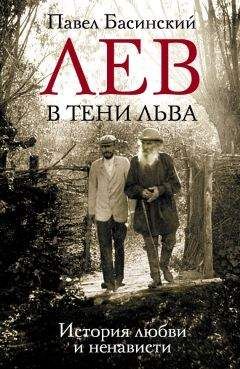И раз уж название Ясная Поляна автор незатейливо изменил на пушкинское Михайловское, то и литературное имя няни стало не Марья Афанасьевна, как на самом деле, но Арина Васильевна – почти Арина Родионовна…
Но больше ничего, кроме имен и названий, в повести не является вымыслом… Однажды няню сменила английская гувернантка miss Emilie Tabor[5], настоящее имя которой Лев Львович в своей повести даже не стал менять. Толстой-отец писал о ней: «Эмили мне очень нравится – полнокровная, степенная, смешливая, добрая, твердая, но грубоватая, не в смысле натуры, но в смысле воспитания и манер». А Софья Андреевна вспоминала, что miss Emilie была особенно хороша с младшими из старших детей, «очень скоро привязала к себе хилую, слабенькую, двухлетнюю Машу, и Лёва тоже ее полюбил». Маша же настолько привязалась к англичанке, что вскоре у девочки появились языковые проблемы: в раннем детстве она хуже говорила по-русски, чем по-английски.
Самым первым воспоминанием детства Яши Полянова было то, как мать кормила его молоком. «Когда я пишу эти воспоминания, мне всё кажется, что я помню не только, как Петю и других моих братьев купали в ванной, присыпали желтым порошком, пеленали, кормили, но и меня самого. Мне всё кажется теперь, что это я сам лежал на коленях матери и сосал ее теплое, сладковатое молоко, она с любовью наклоняется надо мной и внимательно меня разглядывает. А я так занят моим делом, так старательно втягиваю в себя вкусное молоко, что не хочу отрываться и все-таки приятно сознаю, что мать занимается мной и с любовью меня изучает…»
Вторым воспоминанием – как его передавали от няни к гувернантке, поселив с ней в одной комнате. Няня плакала. Мальчик был безутешен.
«Я догнал ее, подбежал к ней совсем близко и, схватив ее за указательный палец левой руки, крепко сжал его. Этот палец у няни был с отрубленным ногтем и поэтому всегда красный и лоснящийся на кончике. Когда она еще прежде, до моего рождения, жила одно время у нас в доме не нянею, а экономкой, то нечаянно отрубила себе палец, когда колола сахар. Не знаю уже почему, но в минуты какого-нибудь душевного волнения, хотя я страстно любил этот нянин уродливый палец, как любил ее всю, он раздражал меня, и я сильнее замечал его, в то же время не желая на него смотреть…
– Прощай, миленький мой, – проговорила няня, – видно, отжили мы с тобой наше время.
– Прощай, нянюшка милая, – горячо выговорил я, и опять слезы брызнули у меня из глаз».
Первое сочувствие к гувернантке тоже связано со слезами. Однажды ночью мальчик видит, как девушка из чужой страны достает из сундучка фотографию, ставит перед собой на столе и долго и пристально смотрит на нее. «В это время две крупные слезы одна за другой выкатились из глаз miss Emilie и повисли на ее ресницах. Она тихо заплакала. «О чем это она, о ком? – подумал я с беспокойством. – Бедная, бедная miss Emilie: приехала далеко в чужую страну одна, без родных, без семьи и сидит здесь со мной и плачет. Господи, как же помочь ей теперь?»
С этой минуты я почувствовал, что полюбил ее…»
А первым по-настоящему серьезным потрясением в жизни, с которым автор «Яши Полянова», собственно, и связывает конец детства, была передача его в комнату мальчиков под руководство гувернера-немца. Об этом событии, перевернувшим душу ребенка, много рассказывается в повести. Ему придается такое же важное значение, какое Толстой-отец в своем «Детстве» придает смерти матери главного героя, вместе с которой кончается уже его детство.
Мать Яши вступает в конфликт с отцом, уговаривая его не отрывать мальчика от женского общества. «…это безбожно, это ужасно, – говорит она рыдая, – Разве ты не видишь, что он еще мал, что ему лучше бы побыть еще с нами, что это не такой ребенок».
«Да что такое? Какой ребенок? Чего он боится?» – не понимает отец. А Яша думает: «Он всё равно не поймет, он не поймет, как мне грустно и одиноко, как я жалею miss Emilie и Катю, как мне страшно здесь. Он не знает, как я жил там хорошо с няней и miss Emilie, Катей и Верочкой, как они любили и ласкали меня, как я любил их и был счастлив там. Он не поймет этого».
«Яша Полянов» заканчивается страстным гимном женщинам. «Всё то время, что я был внизу с мальчиками… мне недоставало той любви и ласки, того нежного, чуткого ухода и руководства, какие можно иметь только от матери или от хорошей няни, только от любящей женской души. И я часто думал и думаю до сих пор, что чем дольше оставляют нас детьми в том обществе, в какое мы попали с ранних наших лет, – обществе матерей или нянь, тем лучше. Чем неотлучней и внимательней следит за нами зоркий глаз их и чем это бывает продолжительней, тем свежее и чище вырастаем мы и тем позднее начинаем видеть грязь и зло людское. И пусть балуют нас старые няни и слабые матери. Пусть балуют сколько хотят. Баловство их не опасно, как часто себе воображают это отцы».
Между тем, Лёля обожал отца! Как, впрочем, и все дети. Обожал в буквальном смысле – боготворил, видел в нем какое-то особенное существо. В отличие от матери, которая была теплой, близкой, но понятной…
«Главный человек в доме – мама», – пишет в воспоминаниях сын Толстого Илья Львович. «Отцовское влияние в доме было сильнее материнского», – замечает дочь Татьяна Львовна.
В этом не было противоречия. Софья Андреевна была заботливой матерью и хозяйкой, а Лев Николаевич – непререкаемым отцовским авторитетом. Поэтому мать любили, а отца обожали.
«Она – наша… Она должна всё для нас делать, – вспоминает Илья Львович. – Она следит за нашей едой, она шьет нам рубашки, лифчики и штопает наши чулки, она бранит нас, когда мы по росе намочим башмаки… Что бы ни случилось: «Я пойду к мама». «Мама́, меня Таня дразнит»… «Где мама?» На кухне, или шьет, или в детской, или переписывает. Ее легкие частые шаги то и дело раздаются по всем комнатам дома, и везде она успевает всё сделать и обо всех позаботиться… Никому из нас в голову не могло прийти, чтобы мама́ могла когда-нибудь устать, или быть не в духе, или чтобы мама́ что-нибудь захотела для себя. Мама живет для меня, для Сережи, для Тани, для Лёли, для всех нас, и другой жизни у нее и не может и не должно быть».
Отец – совсем другое. «Мы обожали его и боялись, когда он был «не в духе», – пишет Лев Львович. – «Папа́́ не в духе, не в духе», – повторяли все, и тогда надо было ждать, чтобы настроение его улучшилось…»
«В раннем детстве я обожал отца, – дальше признается он, – любил запах его бороды, любил его руки и голос…»
Об особом запахе бороды отца, пахнувшей Жуковским[6] табаком, вспоминали и другие дети, тоже обожавшие отца, но именно поэтому державшиеся от него на значительном удалении. Это не значило, что отец был недоступен для детей. Как раз с ним были связаны самые азартные моменты жизни. Отец носил сыновей на плечах, позволял дочерям забираться к нему на колени и щекотать его до тех пор, пока он не молил о пощаде, бегал с ними на перегонки и катался на коньках, привозил из Москвы диковинное развлечение – «гигантские шаги», охотился вместе с детьми, ловил рыбу и читал вслух Жюля Верна. Он давал смешные клички – «Чурка» (Таня), «Сергулевич» (Сергей).