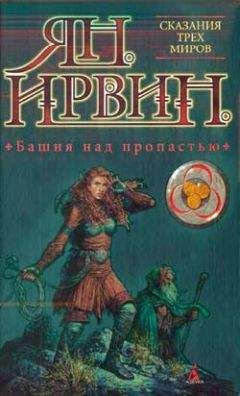не стану говорить, я постарела сразу на десять лет. Для ужасной «ведьмы», бездеятельной и бесполезной, пробил час отречься от жизни. Нужно было быстро записывать прошлое, пока время еще остается. Написать продолжение «Моей жизни».
Вчера утром я решила прогуляться до писчебумажного магазина в Биконсфилде. Мне нужен материал… Стучать на машинке? Э, нет. В этом деле я ужасно неловкая и, как и «Мою жизнь», сейчас тоже предпочту писать от руки. Когда-то я слышала, что Горький, тоскуя по детским годам, писал свои незабвенные повести цветными карандашами. Мне захотелось подражать ему, сыграть в игру «писатели как школьники», и тогда я купила карандаши в старинном, потрескавшемся деревянном корпусе, на котором золотой краской выбиты узоры, и как же была счастлива снова держать их в руках!
С каким, почти чувственным, наслаждением вспоминаю теперь, как скрипела карандашами по странице, тщательно стараясь не порвать такую плотную, зернистую, толстую бумагу – ее я выбирала так же кропотливо! Еще я затачивала их в объемистой точилке для карандашей с рукояткой для верчения, стоявшей на столе: доводила грифели до той же остроты, до какой оттачивают мысль. На ластике же, толстом и белом как мел, стояла печать в виде красного слона с надписью сверху: «Made in India». Он быстро превратился в игрушку – его очень полюбил жевать Джоэйаш, необузданный силихем-терьер, к которому мы с Генри так привязались.
Но нет, в книжно-писчебумажной лавке Биконсфилда я не нашла того, что искала. Придется ехать в Лондон.
Биконсфилд расположен в сорока километрах к северо-западу от Лондона. Этот прелестный городок с населением всего в десять тысяч душ, с его живописными улочками, добротными, почти фахверковыми домами и изящными лавочками в старинном духе, – просто идеальное место для шикарных дач и живая декорация для съемок фильмов. Самое притягательное развлечение здесь – Биконскот, старейший в мире мини-парк, и в полном смысле – образцовая английская деревенька. Обожаю этот уголок!
В самом Биконсфилде похоронены поэт Честертон, государственный деятель Дизраэли… а в прошлом году к ним присоединилась еще одна знаменитость, причем из самых громких: умерла Энид Блайтон, написавшая и «Великолепную пятерку», и «Тайную семерку». [13] [14]
– Но, мадам Карсавина, неужели вы так уверены, что вам необходимо в Лондон?
– Да, господин директор, уверена.
Не хватало еще пускаться в объяснения – зачем?! Он, конечно, спрашивает ради моего же блага, по тайным и настоятельным просьбам Ника, и все же смесь церемонного благодушия и скрытого презрения, характерная для общения с пожилыми людьми, начинает меня раздражать.
Я, которую называли такой мягкой и любезной по натуре, такой воспитанной – как семьей, так и по характеру, – да, я начинаю чувствовать злорадное удовольствие, проявляя неуступчивость. Это вам не простой каприз. Докажу-ка им всем, что я еще женщина в силах и со средствами, свободная и независимая. А что, в конце-то концов…
Всю дорогу я сижу одна, в обществе одного только водителя, которого мне предоставили в пансионе, и наслаждаюсь легким бризом – он ласкает мне лицо через полуоткрытое окно. Волосы? А разве это проблема? Редкие белые пряди покрыты лаком, и я не преминула надеть на них газовую косынку. Любуюсь затылком шофера, он виден за краем фуражки. Есть ли что-нибудь прекраснее для женщины, сидящей позади, чем эти две линии, сходящиеся буквой V, – они обрисовывают то, что я называю «клеткой для поцелуев»; о эта свежая и мужественная плоть, отполированная бритвой!
Юной и желанной я никогда не позволяла себе предаваться подобным размышлениям. И, of course [15], ничего такого нет в «Моей жизни». Стыдливость запрещала мне любые shoking [16] рассуждения. Сегодня мой преклонный возраст и изменившиеся нравы позволяют не слишком смущаться, рассуждая «обо всем таком». Проходит время, запреты слабеют, и вот я уже расположена к известного рода признаниям. Среди них есть легкие, фривольные, связанные с мимолетными влюбленностями – пылкими или не слишком, сегодня вызывающими улыбку. Но есть и то, что вспоминать тяжело и печально. Есть и угрызения совести, о которых я не упоминала в «Моей жизни», но они до сих пор мучают меня, ведь я покинула и своего отца, и первого мужа, Василия Мухина.
В 1929 году я не могла позволить себе рассказывать о Василии – это было опасно, – и не только о нем. Я опасалась скомпрометировать этих людей, причинить им зло. Сейчас, спустя тридцать лет, положение изменилось. Сталин умер и погребен. Объявлено, что ГУЛАГа больше нет. Пусть даже СССР остается непонятным миром за «железным занавесом», пусть даже, по некоторым слухам, теперь в психиатрические лечебницы помещают не только сумасшедших, путь даже прошлогодняя Пражская весна была грубо подавлена войсками Кремля, – при Брежневе режим все-таки выглядит куда мягче.
Я написала эти строки, и на память пришел один случай. Это было в Гамбурге, во времена Хрущева, в 1961-м. Когда Рудольф Нуреев и Иветт Шавире репетировали «Спящую красавицу», оставшись только вдвоем в городском театре, внезапный потоп едва не унес их жизни. Машинист сцены – или тот, кто назвался таковым, – привел в действие противопожарное устройство. В этом увидели «руку КГБ». До того дня, когда Рудольф во время парижского турне выберет свободу, оставалось пять месяцев. [17]
* * *
Прибыв в Лондон, я на миг застываю в нерешительности. А что, если попросить шофера свернуть к дому номер четыре на Альберт-Роуд, по моему старому адресу? Как я любила этот маленький палладианский домик, такой роскошный, такой British [18], откуда открывался вид на Риджентс-парк! В 1926 году мы купили его – и какое же это было счастье для меня. Через семь лет я снова его продала – чтобы приехать к Генри в Будапешт. Сейчас в этом домике детский сад.
В той замечательной розовой шкатулочке я храню также разнообразные свидетельства внутреннего обустройства, которым мы занимались столько лет (и оно сожрало столько наших средств!). Вот конверт, отправленный из Парижа, где я находилась в турне, – он адресован Генри, который оставался в Лондоне и руководил отделочными работами. В конверте обрывок бумаги со следом… губной помады! У Корис Саломе на площади у Оперы я нашла в точности такой же оттенок – розово-оранжевый, прозванный «венецианским», – каким хотела обшить стены гостиной. В понимании цветовой гаммы я прошла прекрасную школу «Русских балетов» и Бакста. Для меня нет ничего приятней на свете, чем листать каталог нюансов.
Еще я сохранила рисунок Бенуа, изображавший нашу гостиную. Там все нарисовано – вплоть до святого Флориана на камине…
Начинает моросить дождик, и я отказываюсь от мысли ехать на Альберт-Роуд.