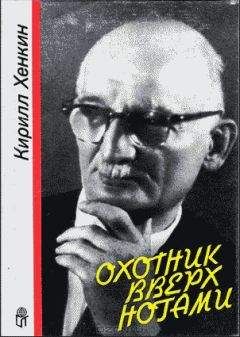А Вилли рассказывал иначе: «Когда я выехал за границу в первую командировку, то ехал по своему паспорту. Во Франции меня встретил Швед (Орлов) с двумя обратными билетами в Англию. По этим билетам мы туда и въехали».
Эту историю «Швед» не рассказал и позже, когда в 1957 году она могла бы заинтересовать многих в Соединенных Штатах.
Вообще похоже, что своих американских друзей Орлов радовал главным образом безобидными «байками».
Еще об отношении Вилли к руководству. Оно было, если можно так выразиться, отрицательным вдвойне. Во-первых, мой друг был фрондер и начальство не любил. Но со старым кое-как мирился. Это были люди, которые действительно учили его ремеслу, сами работали нелегально за границей. Но за последние годы руководящие кадры разведки сильно потрепала чистка, и начальники были, в большинстве, люди новые, занявшие места расстрелянных ветеранов.
Об этих уничтоженных Вилли и Рудольф стали вспоминать при мне не сразу. Но постепенно из них начало выпирать. Особенно, когда, достав водку, мы пили втроем до утра.
Вспоминали людей, вспоминали это последнее страшное время. Мне почему-то запомнился рассказ Рудольфа (его в эти годы не выгнали, и он каждый день, умирая от страха, регулярно ходил на службу).
За несколько месяцев из кабинета, в котором их было пятеро, исчезли четверо. Одного из сослуживцев Рудольфа вызвали к начальству. Он больше никогда не вернулся. И долго на вешалке висела его форменная фуражка. Никто не решался снять. И никто, разумеется, не решался спросить, куда делся их товарищ. А на место исчезнувших пришли другие. Деревенские гогочущие хамы. Мои друзья называли их (из-за методов следствия — они занимались и этим) «молотобойцы».
«Мне повезло, я отделался легким испугом», — говорил Вилли. Выгнанный из разведки в конце 1938 года, он работал на заводе. Но все равно каждую ночь ждал ареста.
Рассказы Рудольфа Абеля, много лет проработавшего вместе с женой Асей на Дальнем Востоке, где он жил под видом русского эмигранта, во многом дополняли рассказы Вилли, который работал в Скандинавии и в Англии. Бывший балтийский матрос и красногвардеец, Абель не знал ни одного языка, кроме русского. Он был очень неглуп, но круг его интересов был узок. Рядом с ним Вилли был не человек, а живой «век Просвещения». Дружили они давно, так как начинали вместе работу в разведке. Одинаково оценивали людей. На первом месте у них стоял Серебрянский. Кое-как тянул Эйтингон. О Судоплатове, начальнике Четвертого управления, говорили с некоторым осуждением. Не любили вельможность, чрезмерную, по тем временам, роскошь жизни. Не понимали, как можно в холодной и голодной военной Москве затеять отделку квартиры. А Судоплатов просто тянулся за более высоким начальством.
Ведь когда в разгар войны надо было построить новое здание для сугубо гражданского института, который возглавляла жена Маленкова, то с фронта сняли саперную дивизию и бросили на строительство. А Маленков был далеко не худшим в этом отношении. Щербаков позволял себе вещи помелочней и понаглей.
Мы часами болтали на кухне. Процесс готовки занимал уйму времени. Давление газа было очень слабое, и он начинал гореть более или менее ровно лишь поздно ночью, когда большинство измученных москвичей засыпало. Но и тогда, чтобы добиться ровного горения конфорки, надо было ритмично ударять ладонью по счетчику. Поэтому один стоял у счетчика и бил по нему ладонью, а второй в это время возился у плиты. Эту роль Вилли старался оставить за собой. Не потому, что бить ладонью по счетчику было утомительно, а потому, что готовящий пробовал приготовляемое блюдо и таким образом получал фактически большую порцию.
Время было голодное, нам все время хотелось есть, и Вилли забывал все на свете и не считался ни с какими обременительными предрассудками, когда дело касалось еды.
Мой паек мы делили честно пополам. Это было облегчено тем, что мне почему-то постоянно давали баранину и рис. Готовился плов, который легко делить. Делили также чай, сахар и прочие продукты.
Вилли же свой паек брал обедами на работе. Кроме того, Серебрянский иногда водил его с собой в генеральскую закрытую столовую в помещении ресторана Арагви. Периодически в буфете на Лубянке давали какие-то внеплановые бутерброды. Вилли честно и подробно обо всем этом рассказывал, но никогда не принес домой ни крошки. Он, полагаю, честно верил, что был голоднее меня. Так, возможно, оно и было.
Вилли редко приходил с работы раньше двенадцати-часу ночи. А то и позже. Так было принято в те годы. Так жила и работала вся страна. Пока не ляжет спать Сталин, — а он ложился на рассвете, — ни один человек, которому мог позвонить Вождь, не смел заснуть. Те, кому могли позвонить эти люди, также бодрствовали. И так — по всей иерархической лестнице. Во время войны это еще объясняли тем, что ночью может что-нибудь случиться. Случалось, однако, и днем.
Сготовив поздний ужин, съев его, мы иногда подолгу не ложились спать, обсуждая все мировые проблемы.
Постепенно, вопреки конспирации, нашли общих знакомых и стали обсуждать их.
Тут я узнал, что одна моя парижская приятельница, о которой мне было известно, что она работает на советскую разведку и была в Союзе, училась у Вилли в разведшколе. Несколько пуританский Вилли был шокирован, что эта представительница знатной эмигрантской семьи не стеснялась совокупляться в душевой с одним из слушателей школы — французом.
Узнал я также, что радист так называемого Учебного батальона противовоздушной обороны, в котором я служил в Испании, австриец Курт, которого сменил приехавший уже при мне Липовка, был тоже учеником Вилли. Его внезапно отозвали в Москву и расстреляли.
— Как троцкиста, — объяснил Вилли.
— А разве он был троцкист? — спросил я.
Вилли посмотрел на меня широко выпученными глазами и, сраженный такой глупостью, ничего не ответил.
4. «Где так вольно дышит человек...»
Февраль 1941 года. Владивосток. Отчаянный, после Калифорнии, холод. Издали похожие на орангутангов грузчики в ватниках, ушанках с опущенными унтами, свисающих до земли рукавицах.
Воняющая сортиром гостиница «Интурист». Назойливые незнакомцы, которых не смущает ни холодность, ни резкость. В поезде — люди, пьющие на завтрак водку стаканами. Постоянное чувство, что за тобой следят, неотступно — от трапа парохода и до перрона Ярославского вокзала в Москве.
Позже я узнал, что так оно и было.
* * *Приехавший раньше в Россию мой сослуживец по Испании Николай Поздняков разыскал меня сразу. Он сокрушался вместе со мной по поводу расстрела Эфрона и ареста Ариадны Эфрон.
— Но ты пойми, ведь мы ничего не знаем. Мало ли что мог наделать Сергей!