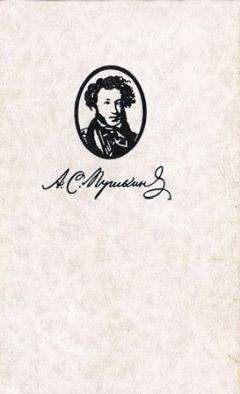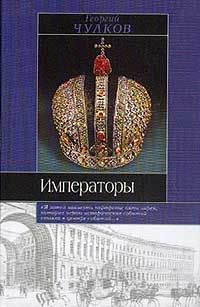Революция, загнанная в подполье, казалась бессильной. Но в это же время беспокойные умы находили себе пищу в полемике с народниками. Перестраивалась на новый лад психология революции. Карл Маркс соблазнял тех, кому не нравилась сентиментальность народничества, расплывчатость и неопределенность той программы, которую защищал Н. К. Михайловский.[45]
Нет надобности распространяться в этих записках о моей тогдашней философии, но социологию Маркса я принял в те годы целиком и совершенно уверовал в пролетариат как строителя будущей цивилизации. Нравилась стройность системы, казалась убедительной начертанная Марксом схема классовой борьбы… Самая фатальность исторического процесса, неуклонно идущего к коллективизму, внушала тот оптимизм, которого так недоставало серой и унылой действительности.
Народничество, со своею сомнительною этикою, было чем-то двусмысленным. А в марксизме все было так отчетливо. Нравилось именно то, что открыт объективный закон, что дело не в социальной морали, которая, как известно, палка о двух концах, а в роковой неизбежности чудесного скачка «из царства необходимости в царство свободы».
На каждого токаря или слесаря я смотрел с особым любовным уважением. Ведь это тот товарищ, который перестроит мир! Жаль только, думал я, что эти блузники сами еще не подозревают, что именно они суть те счастливые избранники истории, которые, защищая свои классовые интересы, тем самым спасут мир от социального безобразия и социальной несправедливости. Надо было открыть этим блузникам секрет Карла Маркса. Одним словом, я жаждал стать пропагандистом.
В это время в Москве социал-демократическая организация была, как известно, очень слаба. В сущности, вовсе не было влиятельного центра. Революционная работа велась кустарным способом. Вот и я сделался одним из кустарей тогдашнего подполья.
Первый социал-демократ, с которым я тогда познакомился, был H. A. Ф-в. Мы жили по соседству, на одной усадьбе, в Молочном пер. на Остоженке. Этот человек внушил мне к себе чрезвычайное уважение. И немудрено. Я был еще тогда гимназистом, а он кончал университет. Кроме того, он был литератором. Правда, он составлял, главным образом, популярные брошюры, но у него был немалый запас разнообразнейших сведений, и я поверил, что он в самом деле «все знает». Правда, мне тогда казалось несколько странным, что мой учитель как-то слишком самоуверен и решительно ни в чем не сомневается, но это смущение касалось философии. Зато в области социологии и политики у меня не было тогда никаких сомнений. И H. A. Ф-в был для меня в этой области самым авторитетным человеком.
В те же дни поддерживал я знакомство с A. B. Соколовым,[46] моим товарищем по гимназии. Впоследствии под псевдонимом Станислава Вольского была им издана небезызвестная книга «Философия борьбы».
Не помню, кто из них помог мне установить связь с подпольщиками, но вскоре у меня в руках оказалась кое-какая нелегальная литература, и я раза два в неделю путешествовал через Крымский мост в Замоскворечье, к одному токарю, где и вел социал-демократическую пропаганду.
Занятия в этом маленьком кружке меня, по правде сказать, мало удовлетворили. Особенно меня смущало то, что мои товарищи оказались склонными к философии, и я не без удивления заметил, что в их головах гораздо больше вопросов и сомнений, чем у моего энциклопедически образованного марксиста. На иные философские вопросы товарищей я не мог отвечать, ибо в брошюрах, которые я им тогда доставлял, было кое-что — с моей точки зрения — неубедительное. И я отмалчивался, боясь впасть в противоречия с партией. Такие недоразумения бывали по поводу «высоких тем», — что касается экономики и политики, то здесь у меня все шло гладко. Однако меня тянуло от пропаганды перейти к агитации. К этому представился случай.
На одной из курсовых сходок я был избран депутатом в так называемый «Исполнительный комитет объединенных землячеств и организаций».[47] С того часа закружилась моя голова в революционном хмеле.
Соблазняла мысль во что бы то ни стало нарушить сонную одурь, доставшуюся России по наследству от правительственной опеки Александра III.[48] Я вошел в Комитет с твердым намерением повлиять на него в том смысле, чтобы студенчество отказалось от узкой «академической» программы и откровенно присоединилось к революции. Я уже мечтал о том, как выйдут на улицу с красными знаменами рука об руку студенты и рабочие. Вот это братание блузников и студентов особенно казалось заманчивым. Я уже тогда понимал, что университетская интеллигенция на таком опыте должна неминуемо расколоться. Но это нисколько не пугало. Напротив, затея казалась увлекательною.
Когда я вошел в Комитет, там председательствовал Ираклий Церетели[49] — впоследствии знаменитый лидер меньшевиков и ныне эмигрант. Надо ему отдать справедливость, что в те годы он очень охотно поддерживал левую фракцию Комитета, стремившуюся перевести движение на революционную почву. Теоретический его багаж был тогда не очень богат. Только попав в тюрьму, по дороге в Сибирь стал он основательно штудировать Маркса под руководством Игоря Будиловича.[50] Впрочем, Церетели, человек способный, сделался очень скоро начетчиком марксизма и социал-демократом, хотя учитель его, Будилович, был убежденнейший и восторженный поклонник Михайловского.
Церетели пользовался немалым успехом в студенческих кругах. В нем в самом деле было что-то пленительное. Красивый юноша (едва ли ему тогда было более двадцати лет), с чуть заметным грузинским акцентом, с добродушною улыбкою и с тем ясным и трезвым умом, который всегда бесспорен и для всех убедителен, он без труда снискал себе популярность. Всегда ровный, спокойный и находчивый, он был идеальным председателем на сходках.
Были в Комитете и будущие большевики, например, A. C. Сыромятников[51] и В. И. Орлов,[52] попавший позднее в 1911 году на каторгу. Были и будущие социалисты-революционеры, так, например, погибший от бомбы Швейцер,[53] Вадим Руднев,[54] Игорь Будилович и A. A. Ховрин,[55] тоже впоследствии, как Орлов, побывавший на каторге.
В. И. Орлов составил обстоятельные записки, посвященные бунтарскому движению 1901–1902 годов. Эти интересные мемуары будут, вероятно, напечатаны, а сейчас я, с любезного разрешения автора, читал их в рукописи. Перелистать эту толстую тетрадь мне, участнику движения, было очень любопытно. Припоминались факты, которые совсем погасли в памяти. Так, например, я совсем забыл, как мы провели заседание Комитета седьмого декабря, а между тем это заседание и выпущенный после него «Бюллетень № 17» в сущности предопределили характер тогдашнего движения. Я своевольно, без ведома Комитета, написал и напечатал прокламацию, где впервые говорилось, что мы, студенты, не рассчитываем на поддержку буржуазных кругов общества. Вот с этой уже отпечатанной прокламацией я явился на заседание Комитета, требуя под ней комитетской подписи и угрожая расколом. Наша партия победила. Церетели, Будилович, Орлов и еще некоторые стали на мою сторону. Подпись Комитета была дана, и знаменитый «Бюллетень № 17» на другой же день появился в Москве, пугая обывателей.