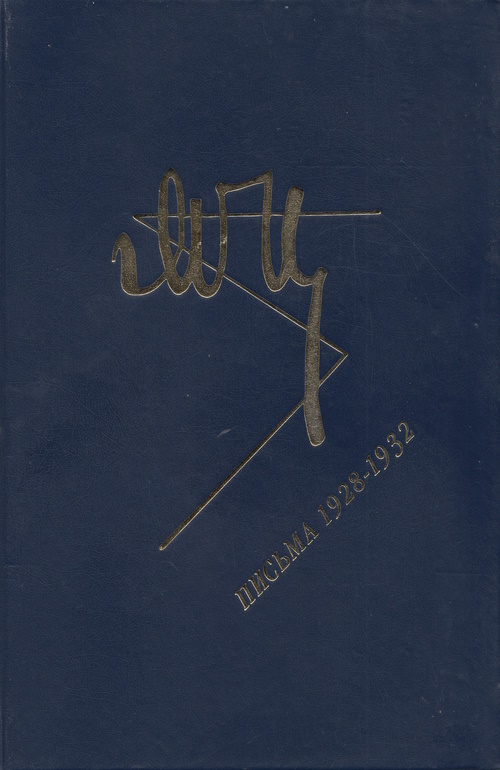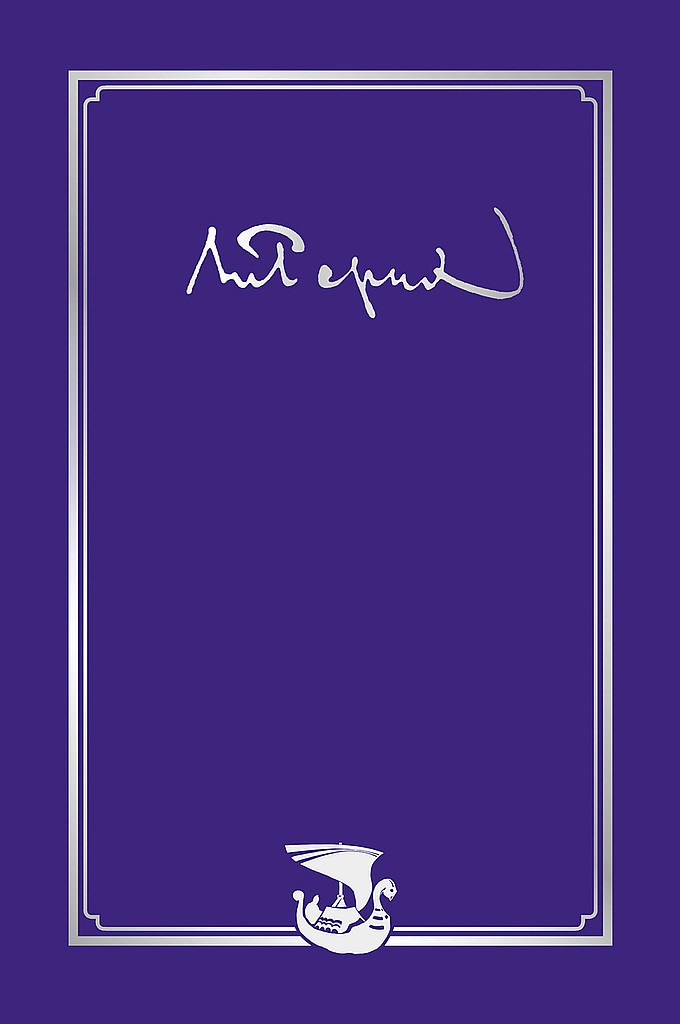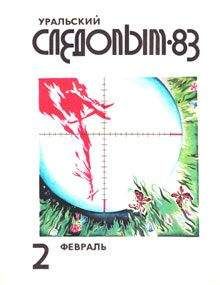и свою принадлежность к «научному атеизму», и значение религии в человеческой жизни. И все бы ничего, если бы автор не был религиоведом.
На этом фоне обращает на себя внимание следующая жесткая автохарактеристика:
В понимании того, что есть ложь и что есть правда, мы были солидарны. Я оказался гибче, стремился выбирать из двух зол меньшее, чего не избежала и она, но куда более, чем она, склонен был к компромиссу. Это сделало мою жизнь в науке счастливей, чем Наташи, легче давалось общение с коллективом ученых, в котором работал. Думаю, что в этом аспекте сказанное «счастливее» означало на деле постыднее. Время предлагало свои правила игры, которым поневоле приходилось следовать. В противном случае предстояло вообще выпасть из игры. Приходилось лавировать. Многие следовали правилам игры жестко и жестоко.
Эта цитата кажется ключевой, она открывает два способа возможного чтения текстов Клибанова (и, вероятно, других представителей «научного атеизма»).
1. Их можно читать бессубъектно, в рамках фукианской «археологии знания», в контексте «правил игры», реконструируя породившую их дискурсивную формацию, продуцируемые ею практики власти и знания, научный этос и проч. Поскольку производимые тексты вписываются в эти правила – «лавирование» автора оказывается несущественным, особенно учитывая тот факт, что авторское начало в позднесоветском дискурсе вообще не было сильно выраженным. С этой точки зрения переписка и авторский комментарий к ней вообще имеют значение только иллюстративное, уточняют кое-какие детали «советской» модели отношений власти и знания, как контекста формировавшегося в ее рамках «дискурса о религии».
2. Их можно читать более «персоналистично», в контексте реконструкции научной биографии автора. В этом случае перед исследователем встает новая задача: осуществить синтез биографических свидетельств, прежде всего публикуемых в данном издании, и научных текстов Клибанова, понять их соотношение, увидеть в опубликованных текстах следы «лавирования», искать в них не только общее «научно-атеистическое», но и собственное «клибановское». И уже исходя из этого – давать характеристику «эпохе», ее «идейным течениям» и т. д.
Но в любом случае понимание эго-документа требует анализа его структуры, уяснения породивших его мотивов. Самым общим здесь кажется соотношение непосредственного становления самосознания героев, предъявляемое самой перепиской, и ее поздней рефлексии в комментариях, постепенно превращающихся в сплошной автобиографический нарратив. Разумеется, и переписка не только что-то раскрывает, но и многое скрывает, хотя бы потому, что авторы считались и с лагерной цензурой, и с необходимостью щадить чувства друг друга. Более сложными, однако, являются мотивы, формирующие вторую часть. Здесь на поверхности – стремление сохранить память о любимой жене, о сложно прожитой жизни, передать эту сложность потомкам, отрефлексировать собственную ситуацию и утвердить смысл своей научной жизни. Но за этим проглядывает сложная диалектика самообличения и самооправдания. Последнее зачастую преобладает в стремлении «дистанцироваться»: подчеркнуть «неортодоксальность» круга знакомств, в том числе поэтических, «еретический императив», управлявший научным творчеством, «оппозиционность» круга, к которому принадлежала Н. В. Ельцина. Сюда же относится критика «твердокаменных» сталинистов, даже в лагерях сохранивших верность строю, подчеркивание элементов «диссидентства» в поведении и мыслях… С этим соседствует, с другой стороны, критичность в отношении дореволюционной России, стремление продемонстрировать преемственность авторитарных элементов дореволюционного и советского времени, такая же критичность в отношении некритичных обращений к дореволюционной эпохе в постсоветское время – все это призвано обнаружить позитивное содержание советской эпохи и через это придать смысл той лояльности по отношению к ней, которую автор, несмотря ни на что, стремился сохранить. Анализ этих мотивов, разумеется, не должен дезавуировать свидетельства автора о своем времени или ставить под сомнение их значимость, скорее напротив – он должен открывать доступ к его эпохе, ее жизненному миру, скрытым в нем корням ее научной, художественной и религиозной (и антирелигиозной) жизни.
Детальный анализ этого текста в контексте изучения научной биографии Клибанова и научного атеизма в целом – дело будущего, но уже сейчас понятно, что он вносит в интерпретацию этого контекста новые, существенно усложняющие ее моменты.
«Кровь событий». Письма 1932–1954 годов
Давно хотелось мне воспроизвести на бумаге впечатления моей жизни, но не все из того, что видел и что достойно памяти – пережил. Писать (или хотя бы записывать) следует лишь о том из виденного и прочитанного, что сам пережил, на чем оставил собственный радостный или скорбный след, о том, к чему прилепилась и с чем ужилась частичка собственного существа.
Воспоминание очень ответственно. Это всегда экзамен для того, кто пишет.
Как тень неотступно следуют слова Данте:
Наукой сказано твоей,
Что, чем природа совершенней в сущем,
Тем слаще нега в нем, и боль больней.
Я недавно читал книгу Либединского «Современники» 69. Толстая книга. Много встреч. И нет в этой книге ни времени, ни его современников, череда моментальных фотографических снимков. И лишь один портрет автора, не выдержавшего испытания. Впрочем, книга вышла уже посмертно. Видимо, Либединский спешил или просто не успел ее отделать хотя бы в меру своих сил.
Письма – больше, чем воспоминанья: на них запеклась кровь событий, это – само прошедшее, как оно было, задержанное и нетленное.
А. И. Герцен
№ 1. Н. В. Ельцина – А. И. Клибанову
(Между второй половиной мая – началом сентября 1932 года)
[м. б. концом августа того же года]
Шлю тебе привет, Саня, с Белого моря. Сейчас мы остановились на ночь на одном очаровательном острове. Кругом море, вдали виднеется синевато-белая цепь гор. Я лежу около горящего костра среди каменных пород в супрематическом стиле и смотрю на горы сквозь колеблющийся дым от костра.
Все тихо. Только крик чаек, гаг, да иногда с легким писком высунется голова тюленя. Странно подумать, что где-то существуют какие-то большие города, где люди живут какой-то иной жизнью. Мне сейчас вспомнились те несколько вечеров, которые я провела у тебя в кресле за чтением стихов и отрывков из Маркса. Кажется, что это было во сне… Да и наше знакомство с тобой такое странное, как отдельные огоньки среди тумана, то вспыхнут, то снова потухнут.
Знаешь, мой больной вопрос я хочу, наконец, окончательно и бесповоротно разрешить в самом высшем диалектическом единстве. Что в самом деле: искусство или треска, или то и другое вместе??? Я много увидела интересного – людей, мест. Мне это, вероятно, очень все полезно, а то как в комнатном застенке живем все время в доме.
С громадным удовольствием ездили на оленях по горам. Олень – очень пугливое и